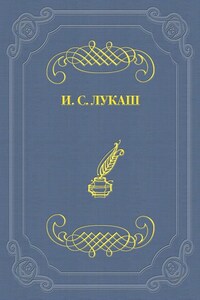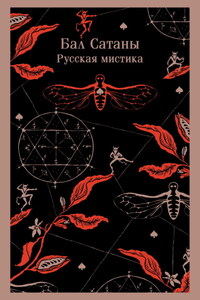Молодой офицер в расстегнутом темном мундире, с полотенцем, перекинутым на руку, тихо шел коридором военного госпиталя.
Ночное молчание, полное тупого напряжения, горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делала походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой.
Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием.
Никаких случайностей – «происшествий» на казенном языке – ночное дежурство не обещало, и офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване.
Он вошел в дежурную без шума, прикрыл за собою высокие двери. В комнате горел газовый рожок. Фуражка и сабля висели на спинке промятого кресла красного дерева, там же была брошена гвардейская светлая шинель.
Другой газовый рожок горел у смутного, поцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы, влажные от мытья, молодым, сильным движением он откидывал вьющиеся пряди со лба.
При туманном свете рожка ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости.
Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным и удивительно привлекательным.
Это было приятное и свежее русское лицо, без резких черт, слегка туманное, такое лицо, где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательно мягкой простотой. Хорош был широкий, светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой.
Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством, и его серые глаза внимательно и строго так следили из зеркальной мути, как бы намечался перед ним в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском мундире, с круглыми эполетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным.
Вдруг кто-то покашлял за спиной.
Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был застигнут за таким сокровенным, чего не должен подсматривать никто.
На подоконнике полукруглого казенного окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел в дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинувши ногу на ногу, он покачивал ногой, обтянутой узкой штаниной на штрипке.
– Извините, что я покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, – сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. – Но не правда ли, вы насвистывали Шуберта?
– Шуберта, – подтвердил офицер с небрежной досадой.
– Опус 77, не правда ли, номер пятый?
– Пятый.
– Я очень люблю эту фразу у Шуберта. Только вы там, в переходике, извините, подвираете.
– Я не подвираю, а нарочно. Ищу другого перехода.
– Как так?
– А так. Ведь Шуберт что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь в подворотне, венскую гармонику, и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки.
– Очень хорошо-с, симфония в две строки…
При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками.
Это был сухонький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то по-кошачьи, потирал. На нем был опрятный сюртук, его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете, с крошечными пуговками. «Немчик, поди», – подумал офицер.
– Разрешите представиться, – вежливо сказал медик. – Дежурный лекарь Бородин, Александр Порфирьевич Бородин.
– А я думал, вы из немцев, – усмехнулся офицер, подавая ему руку. – Я тоже дежурный по госпиталю, гвардии Преображенского Мусоргский Модест, по батюшке Петрович.
– Модест, редкое имя… По-французски – скромный. Маленькая рука медика заледенила на мгновение большую теплую руку Мусоргского.
Неожиданный ночной компанион не понравился ему. Мусоргский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. Военный лекарь, с его опрятным холодком, показался сухарем и педантом.
– Понимаете, – сказал Мусоргский небрежно, – я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода.
– Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад?
– Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печаль необыкновенная, вздох этот для всех людей одинаков, что русские, что немцы…
– Очень хорошо. Я согласен, вы любите музыку.
– Люблю. И мне обидно, когда о ней толкуют люди… Он хотел сказать с сердцем «люди, ни черта в ней не смыслящие», но спохватился:
– … без достаточных оснований. Маленький медик тонко улыбнулся:
– Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его «Своеобразные танцы», не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки… И потом, видите ли, я сам…
Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:
– Я тоже пишу музыку.
Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:
– Вот случай, какое совпадение… Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик…
– Пожалуйста, пожалуйста, – лекарь весело закивал головой.
– Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале, и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке, гонимо, смешно… Кому у нас надобна музыка… У нас музыка – только барская блажь… Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу…
После нечаянного взаимного признания молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке, и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, – как два заговорщика, – понимающие все с полуслова.
Не особенно хорошо, слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его «Немецких танцах», какие недавно оба читали. Потом о «Рождественских рассказах» Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: «Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель»; они поспорили о Бетховене, не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.