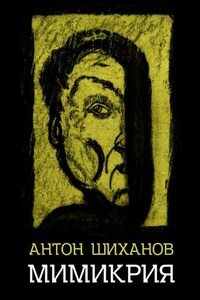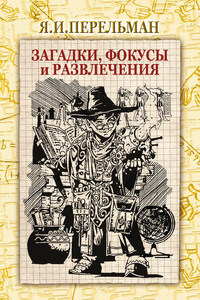В пятнадцать лет я чуть было не стал убийцей. Мне не хватило нескольких минут. Он умер у меня на глазах, а я ничего не мог с этим поделать. Двадцать шестое ноября, тяжёлая картина. Всё пошло прахом. В лицее меня прозвали «И». У меня был приятель Жак, ботаник, который давал мне списывать химию и все предметы, где есть формулы. У Жака не было девушки, и он из-за этого впадал в неуверенность. У меня не было девушки, потому что я не был влюблён. У Жака была мать – серая мышка, у неё – муж, свободный художник. Его звали Жорж Либерман. Когда я приходил к Жаку в гости, мы болтали о разных вещах. Они кажутся мне бессмысленными и опустевшими. Будто из них слили всю воду или кровь. Пустопорожние понятия, мёртвая тишина. Серая мышка была обязана художнику тем, что он вообще есть в её жизни. Он женился, потому что в животе у неё завёлся Жак. Жорж Либерман часто женился. Он рисовал особенные картины, странные, абстрактные, но понятные, что-то вроде вороны, которая сидит прямо на солнце, и это означает, что конец света уже близок. Жорж Либерман был тем человеком, которого я не убил.
Убить – это значит лишить жизни. Он начал первый. Не убивая меня, он поставил на моей жизни крест. Она и так-то мне не очень нравилась, кому понравится его жизнь в пятнадцать лет в доме нелюбимых родственников? Никому она не понравится. А их любимые взрослые дети? Которых ставят в пример? Да, моя жизнь шла не в гору, а под гору, я убегал от неё, как мог. Я врал, и тратил деньги, и пробовал наркотики. Я сделал своим родственникам (не родным, внимание, у меня их нет) много зла, но мне не очень стыдно. Я расскажу, что такое очень стыдно. Так вышло, что девятнадцатое мая выдалось воскресеньем – настоящим выходным днём до мозга костей. Это был хороший день, до тех пор, пока Жорж Либерман меня не изнасиловал. Дальше наступил кошмар. Я не мог собрать слова в фразы, не мог понять, сколько времени, почему я нахожусь дома у своего друга, а Жака тут нет. Такой день, когда слова вышли из моды, обнажив свою чёрную суть. У меня звенело в ушах, и вообще, ощущений было слишком много, чтобы с ними мириться. Жорж сильнее меня. Не верится. Вроде такой тощий тип, любит женщин. До этого мы пили с ним чёрный чай, слишком крепкий. Ночью мне приснилось что-то плохое, какие-то странные люди, которые строят метро, и по всему Парижу слышен метроном, через ровные-ровные промежутки времени. Это был тысяча девятьсот семьдесят пятый год. Я проснулся от мёртвой тишины, как пишут в книгах, я сам хотел сочинять книги. Я не хотел идти в гости, но пошёл. Какой-то нелепый сон был неделю назад, что я переспал со своей смертью, наверное, потому что я видел фильм «Орфей» с Жаном Кокто. Там был примерно такой сюжет. В Париже не всегда хорошо. Я видел Париж из окна Либермана и хотел умереть, как в поговорке. Меня трясло, но я не умирал. А может, уже умер. Я начал жалеть себя. Я не люблю жалость и фальшивую жалость в виде слов. Жорж сказал мне, чтобы я шёл домой. Так, как будто всё нормально. Ему надо заканчивать свою картину. У меня не хватило бы на такое наглости! Он даже не спросил, кому я расскажу. Я первый зачем-то брякнул, что никому. Видимо, я слишком боялся смерти. Я решил идти домой медленно и неверно, петляя по улицам. Со мной происходили разные гадости, вообще, вроде побегов из школы, из дома, меня колотили около церкви, мне делали операцию без общего наркоза, и я видел, что делается, меня учили плавать, но безуспешно, я ел манную кашу, которую ненавижу и я запомнил её вкус. Я боялся того, что мои родители не умерли, а оставили меня дяде и тёте. Что я им был просто не нужен. Жорж Либерман побил все рекорды моего отвращения, страха, ненависти, хаоса, тошноты. Он взял своё силой. Я не хотел бы в следующей жизни рождаться симпатичным мальчиком. Лучше дурнушкой. С веснушками. Взошла луна. Я привык к мысли, что ничего не произошло, я особо не ранен, ничего героического в этом нет, а просто стареющий развратник поступил со мной по-хамски. Я не дал сдачи жестокому человеку. Не смог постоять за себя. Всё. Ничего святого, никакой я не мученик, и это правда. Веди я себя лучше, очень возможно, мне не было бы так плохо сейчас. Я сам нарвался. Тем не менее, я не мог спрятаться в своём унижении надёжно, потому что моя жизнь остановилась, и я подумал, что сам становлюсь землёй или разбитым кем-то стеклом, или проституткой, или может, игрушкой этого самого художника. Я возненавидел все его картины. Я вообще не мог разглядеть на улице ничего красивого, луна, казалось, скалится на меня. Звёзды – это окурки. Что-то совсем нехорошее. Я понял, что у меня поедет крыша, если я не приму какого-то решения, если не вытолкну эту гадость из горла, из лёгких, из помыслов. А, да. Я плакал над собой два часа. Довольно много для парня. Мне стало трудно дышать, потому что в глотке появился какой-то шар, который делал меня похожим на древесную дождевую лягушку. Я не мог говорить. Я стал думать. Есть только два выхода из сложившейся ситуации. Или молчать об этом, или идти в полицию и всё рассказывать как есть. И в том и в другом варианте меня ждало унижение. Так – личное, этак – публичное. Что хуже: когда никто не знает, что с тобой сделали, или когда все знают? Мне требовалось поставить Жоржа на место. Я понял, что не смогу рассказать о случившемся. Не смогу, стыдно. Чтоб он сдох! Я отдышался и понял: «Надо сделать, чтоб он сдох».
Я замыслил убийство. Таким образом, никто не узнает, что со мной стряслось, а Жорж получит по заслугам. Если меня, конечно, не поймают. Если это случится, я покончу с собой. Это решено. Я не хотел умирать и быть опозоренным. Я хотел убить Жоржа и не мучиться. Вот, это два моих желания. Одно вытекает из другого. Я пришёл домой, где меня строгим голосом отчитал дядя, что я шляюсь где-то, пропускаю какие-то важные школьные собраньица, говорю каким-то не таким голосом. Да, у нас в семье не положено вопить по ночам в присутствии старших. Этот индюк разошёлся не на шутку, и я понял, что ещё одно слово – и я провалюсь от стыда сквозь землю. Он сказал ещё пару слов, и я ушёл в свою комнату, зелёный от тоски. Ночью мне показалось, что я не чувствую пальцев на ногах. Я проснулся от чувства инея. А потом замёрзли пальцы рук, вся десятка. Нелепая была мысль – если не отморозятся назад, я не смогу быть писателем, как мне мечталось, – как я без левой руки? Я пишу от руки. Дядина печатная машинка слишком громко стучит. На ней печатает тётя. И тут у меня из носа хлынула кровь. Даже в темноте я чувствовал, какая она красная. Очень тёмная, будто её делали из пиявок и перелили в меня. Она была как платок. Солёный алый платок, и никак не хочет свернуться. Я думал, что если встать – она совсем обнаглеет и превратится в шарф, и останутся следы, пока я буду искать мокрое полотенце. Буду утром мыть ковёр. Специальной штукой, с пеной. Я лежал и пялился на кактусы. На подоконнике среди ночи они казались мне мёртвыми. А она всё шла и шла. Я решил было, что и хорошо – пусть идёт, вытечет вся, и я умру, и не придётся убивать Жоржа Либермана. Я вспомнил что-то про Жака, что он парень, в принципе, совсем не плохой, и жалко, что его отец – такая поганая раскованная тварь. Как я Жаку скажу? Не скажу. Нет. Мне однажды было нехорошо, всё вокруг стало чёрным, как будто смотришь сквозь очки, а коридор казался долгим-долгим, и листья, и цветы – всё было чёрно-прозрачным. Тогда Жак мне сказал, что пройдёт. Сказал, что у творческих людей это бывает. Мне сразу стало как-то легче, а потом это тёмное действительно прошло. Я видел чёрную луну той ночью. Я не к месту стал грустить по маме и папе, я их называл всегда «родители», не мог пересилить себя. Я их не помнил. И думал: «Ну почему я не помню? Неужели в них не было ничего, что бы врезалось в память? Ну, хоть бы цвет глаз или шутка какая-то. Я на них похож, наверное». Они разбились на машине, пьяные за рулём. У меня плохая наследственность, я не буду водить машину. Я стал считать. Думал, так приду к финишу быстрее. Мне надоело считать, я не любил никогда математику. Кровь остановилась, пальцы разморозились. Я вернулся в реальность, которая меня давила своей безразличностью. Мне было холодно. Мне казалось, что под Парижем есть ещё один Париж, и там собираются всякие мучители и творятся жуткие вещи, и Жорж спускается в метро, а там есть лаз, откуда можно попасть в этот тайный Париж. Может, они там устраивают страшные шоу, или издеваются над пришельцами? Я верил в пришельцев, когда был маленьким, и тут мне припомнились их глаза. Я сожалел о том, что инопланетяне, если существуют, наверное, жестоко мучаются. Испугался Вселенной. Она бесконечная и почти пустая, она почти мёртвая. Может, мы скоро умрём тоже. И это хорошо – не придётся убивать Жоржа Либермана. Я боялся его, вот в чём дело. Мне не было жалко или ещё что-то такое. Не в морали дело, а в том, что колени могут подогнуться в самый важный момент. Я понимаю, что звучит жутковато, но у меня не было знакомых убийц. Ни единого! Я бы спросил, что и как надо делать, как спрашивают у старших приятелей – а как вести себя с девушкой, чтобы она не отказала тебе?