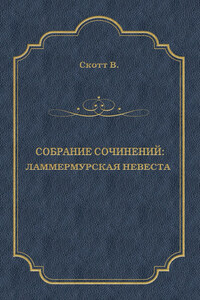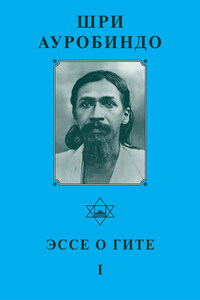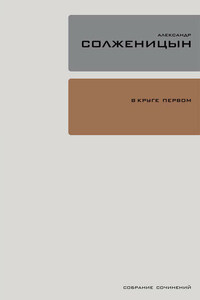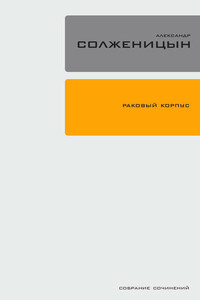Есть такая, немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, – не совестно ли?
И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскребать вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.
Одно – наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело, – мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится – не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.
Обстоятельство второе – что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, – предвидеть точно нельзя.
А тут как раз между двумя глыбами[1], – одну откатил, перед второй робею, – выдался у меня маленький передых.
И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.
То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво – когда писатели.
У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.
Но всё-таки: не о том печься – мир бы тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, – этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно – так, чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томились в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, – но тут Шаховского посадили (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за… их реакционности! Так Чаадаев установил рекорд – уже 110 лет после смерти – замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!
А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше в стол, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.
Но, шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может пройти. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не доконечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.
До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь оттого, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.
С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под грудами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься.
И – изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.
Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть – многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрическою системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько – и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, – уже неделя в месяц.
Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки – проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.
Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.
Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – не дождалась, вышла за другого.