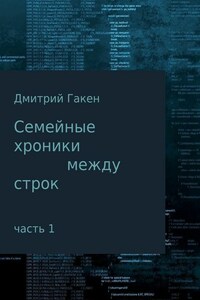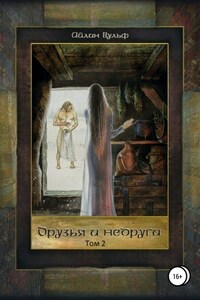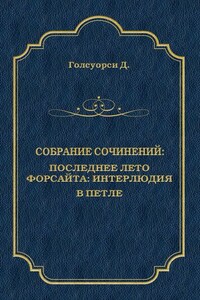I
… С ростом листвы на деревах дни все длиннее, а ночи все короче. И в последний день весны третьи петухи грянули-заголосили, оповещая, что всем пора пробуждаться, считай, уже засветло.
– Наш-то опять гаркнул в полную натугу! Никому не уступит! – выделила Доброгнева своего домашнего солиста. – Да и пусть себе орет, елико осилит, абы про кур не забывал.
Молчан, муж, протяжно всхрапнув, выбрал другой бок – прежний, видать, уже отлежал. Но вежды так и оставил смежеными.
– Вскоре и подыму. Не ближняя у него дорога, а собираться сколь? Не на охоту, чай, а на торжище! – рассудила Доброгнева. Сама она, привычная вставать спозаранку, поднялась еще раньше, за вторыми петухами – сигнальщиками для хозяюшек, что пора ставить или проверять тесто.
И чуть не запнулась на первом же шаге. Таковая оплошка вряд ли случилась бы парой седмиц допрежь. Ведь тогда ночную избу еще подсвечивал огонек в глиняной плошке с фитилем из скрученной грубой ветоши, пропитанной конопляным маслом, понеже закончился жир из свиной брюшины.
Малой, именем Третьяк, что обозначало: третий сын, заегозил-засопел в кроватке на коротких ножках, обжитой до него еще старшими сыновьями.
– Последышек мой, – с нежностью подумала Доброгнева. – скоро от груди отрывать. Уже и Молчан серчает: хватит, мол! Ведь с позапрошлого лета сосет. Гладкий на мамкином-то молоке!
И вспомнила, что в тягости своим третьим, молила Мокошь и Ладу о дщери! Да не судьба…
А Храбр, мужающий отрок, ноне по плечо Молчану, что всех в селище выше, и Беляй, средний сын, уж пробудились на полатях, потягиваясь ото сна. Не сверзнулись бы, впопыхах, оттуда!
Меж вторыми петухами и третьими Доброгнева успела не токмо помыться, и привести себя в полную опрятность, а и разворошить кочергой горящие угли в печи в дальнем углу от входа, сложенной из камня и глины и не остывавшей, когда зима, денно и нощно. Удостоверилась: хлеб в ней вот-вот дойдет. Проверила и иное, что истомлялось уже до полной готовности.
Накормила скот в загоне, насыпала курам проса, вынула яйца. Побаловала коровку, а скоро уж первая дойка, парой репок с руки – пусть давно уж прелые они, однако Зорька и таковым рада. Заглянула и в клеть. Прибралась в сенях. Вслед прихорошилась вся, облаченная в верхнюю, почти до пят, белую рубаху, украшенную вышивками.
Надела гривну – серебряный обруч на выю. Переплела косу – знак замужества: лишь в девичестве не возбраняется ходить с распущенными власами. А серьги с подвесками, подаренные Молчаном еще на свадебку, не снимала почти никогда.
Поправила платок, а по зиме она носила шапочку из валяной шерсти, украшенной бахромой, и повязала его, дабы накрепко держался, ведь опростоволоситься – сущий срам! И вычернила брови печной сажей, дабы краше предстать пред мужем.
Подошла к лежанке, где на медвежьей шкуре поверх соломенного матраса досыпал Молчан, первый охотник во всей округе, вмяв своей нечесаной главой подушку, набитую с прошлой осени духовитыми лесными травами.
– Хозяин, любезный мой, вставай! – воззвала она, словно пропела.
Явно нехотя, хозяин перевернулся на спину, что-то невнятно буркнул спросонья и отверз-таки вежды. Сел, вытянул ноги, основательно зевнул. Почесал десницей грудь, всю в густом волосе. И окинул взором жену – без любезности. Ничего не молвил!
Молчан, столь неутомимый по вечерам в любом домашнем ремесле, что мог лечь чуть ли не на заре, отнюдь не любил пробуждаться. И наблюдалось сие каждое утро.
Встал, подтянул холщовые порты и босой заспешил во двор.
– Истинно Молчан! Когда дома, и рот отворяет, будто с натугой. Даже не приветил! Вот и принаряжайся! – в сердцах подумала вслед Доброгнева. – И скрытник, каковых и не встретишь. Елико раз справлялась, об его тайном имени, коим волхв Велимудр нарек на священном обряде, ведь любопытно мне. Да куда там! Все одно молчит…
Давно уже и старшой наш прошел сей обряд, омытый пред тем в особом месте, скрытом от чуждых, и сразу же матери доверился. А у этого – рот на засове: таился, и таится. Предо мной-то к чему?!
И тут же, чисто по-женски, вступила в противоречие себе самой.
– Корю его, корю, а хозяин он – справный. Столь добра накоплено в доме, что не обидятся сыновья, когда отойдем к Стрибогу и придется делить им. Добытчик, всем на зависть. Первый охотник в округе Заботливый отец. И полной еще мужской силе!
Он и посуровел лишь с годами. Допрежь и мягче был, и ласковей, и речист порой. Се судьба его принахмурила, зане сполна хлебнул в дальних отъездах, долгих! Вот и ожесточился! Аукнулись ему улещивания от старшего родича, покойного! Во всем виноват тот старый хрен! Еще и на мя поглядывал!
На все руки хват – даже шкуры выделывает сам и сети плетет. И на подарки мне щедр – никогда не обидит.
Прощу его! – чего ж тут делать, аще таков. Я ить и сама-то еще сызмальства с норовом. Не медвяной он у меня! И рассказывала матушка, буде зайдусь тогда до посинения, так и заулыбаюсь потом. Потому и назвали, как угадали: и добрая, и гневная…
…От реки тянуло рассветной свежестью. Роса холодила ороговевшие подошвы. А чуть дунуло, уже обутый Молчан, отойдя подальше, дабы полюбоваться обзором, всегда любезным ему по поздним веснам, аж поежился.
С возвышения ясно открывались дальние виды в любую сторону.
В напольной стороне, обратной от реки, ясно проглядывала кромка бесконечного леса, почитаемого Молчаном как одно из главнейших мест его промысла, и любимого за преогромный бор в нем. Поелику было за что любить!
Лепота окрест в красном лесу по ясной погоде! А особливо в бору на холмистом месте, где сосны-великаны на отдалении друг от друга, где нет подлеска, нет мхов, где ровный подстилок из иглиц, где самый чистый, целительный воздух и смоляной запах от разогревшейся на солнце хвои.
Здесь и буреломы – редкость. Понеже каждая соснища – с ажурной кроной в вышине и без отмерших нижних ветвей, вросла сквозь песчаную почву столь глубоко и основательно, что и ураган не страшен. А до старческого обветшания ствола и корней ей еще далече.
Да и ладно дышится не токмо в бору, а и в любом хвойнике-краснолесье, куда привольнее и глубже, чем в лиственном чернолесье с его буераками, мочажинами и колючими зарослями.
Однако для охоты, ежели ли она умеючи, любой лес хорош: были бы зверь да птица. Не то ноне!
Все птицы – что не перелетные, что прилетные – сидят на гнездах, высиживая яйца. Добычливые тетеревиные тока – прошли. У косуль – отел. А сохатые, как растаял снег, ушли кормиться на болота и топи, до коих и доберешься не вдруг; до самого лосиного гона не жди их оттуда. Векшу после линьки незачем и добывать до самых заморозков.
От прочих, что для шкур и шкурок, тоже мало проку. Только по снегу и высмотришь след куницы, а без него не найти дупла, где она хоронится. Бобровый гон – не раньше, чем опадет вся листва. Горностай начнет белеть только в предзимье.