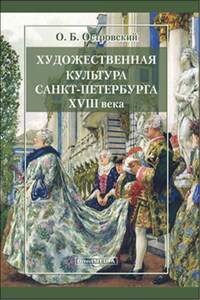За последние двадцать лет мир искусства изменился до неузнаваемости. И дело не только в том, что с 1980-х годов колоссально возросло число людей, называющих себя художниками, – другим стало отношение общества к искусству и художникам. Раньше восемнадцатилетние юноши и девушки, решившие учиться искусству, встречали улыбки непонимания со стороны друзей и знакомых. Родители противились такому желанию или в лучшем случае требовали от молодых людей получить сначала «настоящую профессию». Сегодня, двадцать лет спустя, решение стать художником никого не пугает и не удивляет, а экзотическая аура вокруг артистического призвания улетучилась. Креативность, новаторство, оригинальность и даже чудачество находят поддержку у бизнесменов и чиновников. «Прогрессивный» предприниматель эпохи постфордизма видит в искусстве коммерческий потенциал, а политик использует его для развития креативного города, который сможет устоять в глобальной конкуренции с другими городами. Иными словами, за последние двадцать лет искусство – или, по крайней мере, «художественное» – переместилось с периферии в центр общества. Вторя немецкому писателю Хансу Энценсбергеру, итальянский философ Паоло Вирно заявляет, что искусство растворилось в обществе, словно таблетка в стакане воды.
В этой книге отстаивается гипотеза, согласно которой определяющую роль в данном процессе сыграло само современное искусство. В социальной структуре искусства раннего модернизма была создана одна из тех социальных лабораторий, где зарождалась нынешняя, постфордистская, трудовая этика. Качества, которые особенно ценятся в постиндустриальной экономике, – коммуникативность, красноречие, креативность и оригинальность, способность мыслить в границах отдельного проекта на условиях временного контракта или вовсе без такового, готовность к гибкому рабочему графику, физическая и интеллектуальная мобильность, – до того приобрели определяющую роль (чтобы сохранять ее и поныне) в области искусства. Благодаря этому мир искусства спокойно приспособился к бесконечной гонке капиталистического накопления, что убедительно доказали французские мыслители Люк Болтански и Эв Кьяпелло. Перефразируя их, можно сказать, что критицизм искусства оказался впитан капиталистической идеологией и теперь стоит на службе неолиберальной системы труда.
В последнем предложении вводится теоретически нагруженный термин, который будет регулярно появляться на страницах этой книги, – «неолиберализм». Поскольку для нас это имя идеологического врага, придется кое-что пояснить. Хотя неолибералы, так же как до них и просто либералы, абсолютно убеждены в благотворном воздействии независимой культуры, конкуренции и свободного рынка; хотя и те и другие выступают за ограниченное правление, мало вмешивающееся в дела рынка, они совершенно по-разному видят свою основную идею, которую можно определить как «свобода».
Традиционный либерализм никогда не считал индивидуальную свободу своей единственной политической и общественной целью. Либералы с оптимизмом смотрели на человечество, полагая, что мир станет лучше, как только индивид обретет абсолютную свободу. Свобода была для либерализма не просто целью, но и условием построения лучшего общества. Иными словами, либерализм полагал, что общество станет лучше, если предоставить индивидам безграничную свободу действий. Именно поэтому рынок должен был стать полностью свободным – наиболее бескомпромиссные проявления этой идеи привели к возникновению пермиссивного капитализма. Ради творческого новаторства и роста благосостояния приходилось идти на риск – предоставлять индивидам максимальную свободу. В условиях либерализма с его верой в свободно действующих субъектов было место и для дерзких предпринимателей, и для самых необычных художников, и для других творческих личностей. Ведь, в конце концов, именно они являются самым ярким выражением индивидуальной свободы и независимого самосовершенствования.
Неолиберальные воззрения на человечество менее оптимистичны. Отчасти, возможно, это объясняется рядом исторических эксцессов, случившихся по вине слепой веры в свободу человека. Неолиберализм крайне настороженно относится к предоставлению индивидам свободного пространства. Смогут ли те разумно и правильно им воспользоваться? Наверное, именно в силу этого недоверия политическая программа неолиберализма старается контролировать или сдерживать свободу, которую сама же провозглашает. Чтобы свобода была и оставалась измеряемой, контролируемой и управляемой, в ход идут всевозможные репрессивные инструменты. Именно поэтому вместо термина «неолиберализм» я часто употребляю в своей книге понятие «репрессивный либерализм». Ведь суть этого явления не в «новой свободе», а в снижении свободы. Тому, что не может быть заранее рассчитано или хотя бы измерено в обозримом будущем, все труднее найти свое место на рынке. Важно здесь то, что неолиберализм поддался фундаменталистской склонности в себе, объявив число (а также императив накопления и максимизации прибыли) фундаментом всех культурных ценностей. Число становится единственным основанием общества, и неолиберализм тем самым становится по сути неотличим от иных режимов, признающих нечто единственное в своем роде (священную книгу, образ Бога).
Как и всякий фундаментализм, неолиберализм подпитывается страхом. Страхом перед собственным двигателем и утопическим идеалом – свободой. Репрессивный либерализм неспособен взглянуть в лицо собственным идеалам. Ради обуздания творчества он постоянно принимает суровые имущественные законы. Эти законы нужны для того, чтобы скрыть страх перед свободой, перед собственным народом и обществом, а в конечном счете и перед самим собой (человечеством). Эстетика измеримости – это продукт фундаменталистского страха перед творческим потенциалом всякого человеческого существа. И поскольку неолиберализм прячет свое недоверие за дискурсами практичности, взаимопомощи и реализма, это еще и глубоко циничная идеология, наводящая на мысль об отголоске коммунизма, донесшемся из-за рухнувшего «железного занавеса». Les extrêmes se touchent