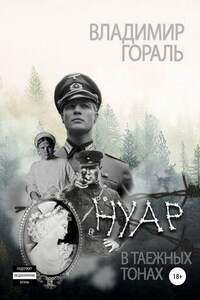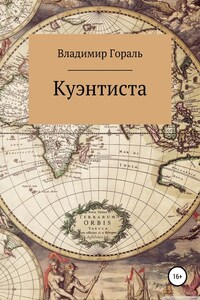На судне царила пугающая, непривычная тишина.
Бледный и замученный капитан «Ореховска» уже третьи сутки безвылазно торчал в штурманской рубке. С рабочего места он отлучался лишь по нужде и в столовую, перехватить что-нибудь на скорую руку.
Главный дизель, сердце любого корабля, продолжал свою смертельную забастовку. Реанимационная бригада машинной команды, возглавляемая стармехом, раз за разом терпела неудачу. Между тем, дикие скалы ирландского побережья были уже хорошо видны без всякой оптики.
То утихая, то поднимаясь с новыми силами, шторм неумолимо нёс неуправляемую и накренившуюся на подветренный борт[1] рыбацкую посудину к прибрежным камням. Шпангоуты траулера жалобно стонали под напором стихий воды и ветра. Словно беспомощная жертва под палаческим бичом, эти судовые рёбра издавали настоящие вопли при особо чувствительных ударах волн.
Альберт Адольфович Баринов в первые же сутки аварийной обстановки попытался дать «Mayday»[2]. Однако куда более рассудительный старпом в буквальном смысле дал ему по рукам, выбив из них телефонную трубку радиостанции УКВ. Здоровенный Никита сгрёб старика капитана в охапку и оттащил в радиорубку. Там он заставил его срочно выйти на связь с береговым начальством флота.
Начальство доходчиво объяснило Баринову, что иностранных денег у флота «нету ни буя». И все операции по спасению лайнера «Ореховск», которые произойдут по его, Адольфыча, инициативе, могут быть оплачены исключительно из его же капитанского кармана. Если, конечно, его настоящая фамилия Корейко. В противном же случае, по возвращении на родной берег его старая задница подвергнется суровой экзекуции путём превращения в копию британского флага «Юнион Джек».
Что ж, ничего нового, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
– Сигнал бедствия подадим, – старпом Никита постарался кое-как утешить старика. – Но только когда нас о камни шарашить начнёт.
– Весёленькая перспектива, – отметил про себя Михаил.
Он поневоле оказался в курсе всех командирских переговоров, поскольку числился младшим штурманом, и его вахты проходили под непосредственным кураторством капитана.
Острозубый ирландский берег, приближаясь, всё увеличивался. На мостике бесцельно маячила долговязая сутулая фигура Баринова. Альберт совсем сдал, и своей кричащей никчёмностью дико раздражал экипаж. Часами он слонялся по бесполезному мостику, подобно бледной тени гамлетовского папаши. Все трое суток этого дикого дрейфа судно имело крен на правый борт. Иногда качка усиливалась настолько, что приходилось крепко цепляться за поручни, чтобы не превратиться в беспомощную тушку, катающуюся у ног коллег. Порой крен становился смертельно опасным, и до оверкиля [3] оставались считанные градусы. Адольфыч повисал на деревянном поручне, крепко привинченном к переборке, словно гимнаст-паралитик на турнике. Скользя башмаками по накренившейся палубе, он издавал глухие, полные тоски стоны.
– Роженица хренова! Добить бы тебя, чтоб не мучился! – глядя на то, как Адольфыч вяло и беспомощно перебирает длинными ногами, бормотал старпом. А затем отворачивался с невыразимым презрением.
Поутру шторм ослабел. Капитан побывал в машинном отделении и, повеселевший, вернулся оттуда с трофеем, машинным маслом. Здоровенная жестяная банка была доверху наполнена густым как гуталин тавотом.
– Вот, ребяты! – объявил кэп с фальшивым задором. – Это солидол, он же тавот. Водичка-то за бортом плюс четыре. Попадешь в такую, и через десять минуток остановочка сердца – от переохлаждения. Однако солидольчик превосходный теплоизолятор, и ежели перед купанием успеть раздеться, да им намазаться…
– Можно продлить агонию до четверти часа! – проворчал себе под нос сорокалетний матрос-палубник Георгич, стоящий вперёдсмотрящим на капитанском мостике.
***
Провидение всё же решило пресечь суицидальные намерения старого рыбацкого корыта. К полудню прекратился шторм, и, избавившись от ветрового крена, «Ореховск» встал на ровный киль. Вскоре заработал главный двигатель. Кстати, настоящую причину его внезапных забастовок машинная команда во главе с дедом так и не нашла. Просто настроение у старого дизеля поменялось. Захотел, встал. Надоело стоять, заработал. Без объяснения причин. После обеда старпом Никита подозвал Мишку:
– Давай-ка, третий, бери боцмана. И дуйте оба в нижний морозильный трюм. Проверьте, как там наш груз. Пока мы потонуть готовились – не до того было, хотя в трюме грохотало здорово. После шторма и таких кренов, что у нас были, вряд ли там порядок.
Под «нашим грузом» Никита подразумевал не только плачевные тридцать пять тонн тихоокеанской мороженой ставриды – всю выловленную за два месяца рыбу, но и последнюю «завидную добычу» Ореховска – мёртвое тело с чужого траулера.
Тридцатикилограммовые ящики с рыбой находились в носовой части. Если бы трюм удалось заполнить до отказа, на все шестьдесят пять тонн, то за груз можно было бы не беспокоиться. Однако теперь, при частичном заполнении, в трюме оставалось свободное пространство. Обычно такие пустоты заполняли неиспользованной картонной упаковкой.
Однако щедрый капитан Баринов, несмотря на возражения старпома, отдал всю тару на другой траулер. В качестве «алаверды» Адольфыч принял на борт деревянный ящик с покойником. Произвёл, так сказать, адекватный обмен. Так что грузу в полупустом трюме было где разгуляться, особенно при той дикой штормовой качке, что недавно приключилась с «Ореховском».
– А я ведь знавал покойного, – рассказывал боцман Саныч, пока они с Мишкой шли к трюму. – Борей его звали. Мы с ним на одном траулере рыбачили, к Медвежьему за треской ходили. Да вот беда, запоями страдал мужик. Видать, от того и помер. А ведь нормальный был хлопец, весёлый и смешливый. Бывало, всё анекдоты травил. Сам рассказывает, и сам же смеётся, заливисто так, словно дитя малое. Говорят, после захода в Панаму неделю не просыхал, вот сердечко и не выдержало.