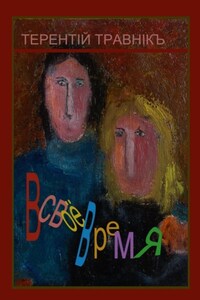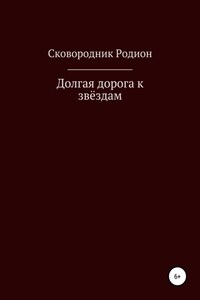Иногда, наверное, каждый с грустью чувствует несовершенство человеческой памяти. Я говорю не о склерозе, к которому все мы приближаемся с прожитыми годами. Печалит несовершенство самого механизма, его неточная избирательность…
Когда ты мал и чист, как белый лист бумаги, память только приготовляется к будущей работе – мимо сознания проходят какие-то малозаметные, по причине своей привычности, события, но потом ты вдруг с горечью понимаешь, что были они значительными, важными, а то и важнейшими. И ты будешь мучиться этой неполнотой, невозможностью вернуть, восстановить день, час, воскресить живое человеческое лицо.
И уж вдвойне обидно, когда речь идет о близком человеке – об отце, о тех, кто его окружал. К сожалению, я почти лишен обычных в нормальных семьях детских воспоминаний о нем: детство оставило мало зацепок, а когда механизм памяти заработал, виделись мы редко – либо дверь в кабинет была закрыта и сквозь рифленое стекло расплывчато темнел его силуэт за столом, либо междугородный звонок дробил покой притихшей в его отсутствие квартиры и бесстрастный голос телефонной барышни сообщал нам, откуда, из какого уголка страны или мира, донесется сейчас хрипловатый отцовский баритон…
Впрочем, так было потом, после Ленинской премии за «Брестскую крепость», после невероятной популярности его телевизионных «Рассказов о героизме». Это было потом…
А поначалу была небольшая квартира в Марьиной Роще, куда в середине пятидесятых годов – в пору моего детства – ежедневно и еженощно приходили какие-то малопривлекательные личности, одним своим видом вызывавшие подозрение у соседей. Кто в телогрейке, кто в штопаной шинели со споротыми знаками различия, в грязных сапогах или сбитых кирзовых ботинках, с потертыми фибровыми чемоданчиками, вещмешками казенного вида или попросту с узелком. Они появлялись в передней с выражением покорной безнадежности на лицах землистого оттенка, пряча свои грубые шершавые руки. Многие из этих мужчин плакали, что никак не вязалось с моими тогдашними представлениями о мужественности и приличиях. Бывало, они оставались ночевать на зеленом диване поддельного бархата, где вообще-то спал я, и тогда меня перебрасывали на раскладушку.
А через некоторое время они появлялись вновь, иногда даже успев заменить гимнастерку на бостоновый костюм, а телогрейку на габардиновое пальто до пят. И то и другое сидело на них дурно – чувствовалось, что они не привыкли к подобным нарядам. Но, несмотря на это, внешность их неуловимо менялась: сутулые плечи и склоненные головы вдруг отчего-то подымались, фигуры распрямлялись. Все очень быстро объяснялось: под пальто, на отутюженном пиджаке горели и позвякивали ордена и медали, нашедшие их или вернувшиеся к своим хозяевам. И, кажется, насколько я тогда мог судить, отец сыграл в этом какую-то важную роль.
Оказывается, эти дяди Леши, дяди Пети, дяди Саши были замечательными людьми, сотворившими невероятные, нечеловеческие подвиги, но почему-то – что никому не казалось в ту пору удивительным – за это наказанными. И вот теперь отец кому-то, где-то «наверху» все объяснил, и их простили.
Эти люди навсегда вошли в мою жизнь. И не только как постоянные друзья дома. Их судьбы стали для меня осколками зеркала, отразившего ту страшную, черную эпоху, имя которой – Сталин. И еще – война…
Она стояла за их плечами, обрушившись всей чудовищной своей массой, всем грузом крови и смерти, горелой кровлей родного дома. А потом еще и пленом…
Дядя Леша, который вырезал мне из липового чурбачка роскошнейший пистолет с узорной рукояткой, а свисток мог сделать из любого сучка, – Алексей Данилович Романов. Никогда не забыть мне этого живого воплощения добра, душевной кротости, милосердия к людям. Война застала его в Брестской крепости, откуда попал он – ни много ни мало – в концентрационный лагерь в Гамбурге.
Его рассказ о побеге из плена воспринимался как фантастика: вместе с товарищем, чудом ускользнув от охраны, проведя двое суток в ледяной воде, а потом прыгнув с причала на стоявший в пяти метрах шведский сухогруз, они зарылись в кокс и доплыли-таки до нейтральной Швеции! Прыгая тогда, он отшиб себе о борт парохода грудь и появился после войны в нашей квартире худющим, прозрачным туберкулезником, дышавшим на ладан. Да и откуда было взяться силам на борьбу с туберкулезом, если ему все эти послевоенные годы говорили в глаза, что, покуда другие воевали, он «отсиживался» в плену, а потом отдыхал в Швеции, откуда его, кстати, не выпустила на фронт Александра Коллонтай – тогдашний советский посол. Это он-то «отдыхал» – полумертвец, извлеченный из трюма вместе с мертвецом в такой же лагерной одежде!.. Его не восстанавливали в партии, ему не давали работы, жить было практически негде – и это на Родине, на своей земле… Но тут случилась телеграмма от моего отца…
Петька – так он назывался у нас в доме, и надо ли говорить, каким он мне был закадычным приятелем. Петр Клыпа – из защитников крепости самый молодой, во время обороны двенадцатилетний воспитанник музвзвода – у нас он появился тридцатилетним человеком с робкой страдальческой улыбкой мученика. Из положенных ему властями 25 лет (!) он отсидел на Колыме семь по несоизмеримой с наказанием провинности – не донес на приятеля, совершившего преступление. Не говоря уж о несовершенстве этого уголовного уложения о недоносительстве, зададимся вопросом: мальчишку, вчерашнего пацана, однако имевшего за плечами брестскую Цитадель, упрятать на полжизни за такой проступок?!
Это его-то, о котором бывалые солдаты чуть не легенды рассказывали?.. Через много лет, в семидесятых, когда Петр Клыпа (чьим именем назывались пионерские дружины по всей стране и который жил в Брянске и, как тогда говорилось, ударно работал на заводе) столкнулся каким-то недобрым образом с бывшим секретарем Брянского обкома КПСС Буйволовым, опять начали ему вспоминать «уголовное» прошлое, опять стали трепать нервы. Чем уж он не угодил – не знаю, да и узнать не у кого: вся эта кампания не прошла для Пети даром – умер он всего-то на шестом десятке…
Дядя Саша – Александр Митрофанович Филь. Он появился у нас на Октябрьской одним из первых, хотя и добирался дольше всех.
Из гитлеровского концлагеря он прямым сообщением отправился по этапу в сталинский, на Крайний Север. Отсидев ни за что ни про что шесть лет, Филь остался на Алдане, считая, что с клеймом «власовца» на материке ему жизни не будет. Этого «власовца» ему походя навесил следователь на фильтрационном проверочном пункте для пленных, заставив не читая подписать протокол.