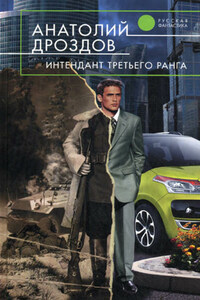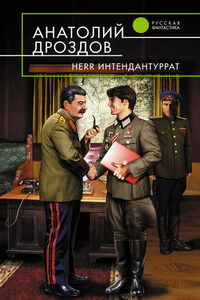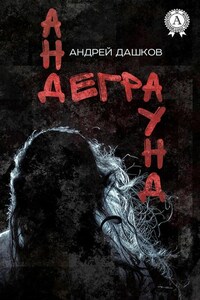Свинцовый шарик в его карманных часах пересек границу первого квадранта, когда нигредо шагнул в проделанный им коридор и покинул пустоту, которая называлась «бункер» – двадцать восьмой по его личному счёту. Он выяснил это, изучая и анализируя сохранившиеся документы, надписи на стенах и прочие свидетельства давно закончившейся суеты. Пустоты с таким названием попадались довольно часто; с некоторых пор по всей многострадальной тверди были разбросаны всевозможные «командные пункты», «станции слежения», «шахты», «хранилища» и тому подобные новообразования. Случалось, они медленно разрастались – как раковые опухоли в некогда здоровом теле.
Впрочем, нигредо было грех жаловаться. Раньше, благодаря обилию пустотников, ему хватало еды, даже оставались излишки. То был золотой век. Нигредо не убивали друг друга, некоторые объединялись и вместе ломали твердь. Однако времена изменились к худшему, и теперь борьба за угодья шла не на жизнь, а на смерть. Кстати, о смерти он знал не понаслышке.
Чужие языки также не являлись для него проблемой; все нигредо, независимо от того, когда они покинули Колыбель, обладали врождённым талантом постигать смысл и связь любых знаков – от иератических символов до алфавитов. В крайнем случае он мог прибегнуть к помощи призраков – мёртвых пустотников всегда было и будет гораздо больше, чем живых. Он улавливал их тонкие вибрации, и потребность в речи и мыслях отпадала вовсе.
В бункере номер двадцать восемь нигредо обнаружил шестерых. Он неплохо провёл с ними время, узнал кое-что новое, поэтому и задержался в пустоте дольше, чем обычно, – примерно на четыре спирали. Впрочем, призраки не считались серьёзной добычей, хотя и позволяли пополнить запас энергии. На этот раз он взял себе только троих – на тот маловероятный, но всё-таки возможный случай, если когда-нибудь придётся туда вернуться. По мере удаления от места смерти они быстро утрачивали питательные свойства даже при хранении в специальном контейнере.
Неутолённый голод гнал его дальше и дальше, в вечную тьму еще не пройденной тверди, взламывать которую стоило тем больших усилий, чем дольше он оставался без пищи. Настоящей пищи.
Нигредо шел в абсолютной темноте, не расходуя драгоценную энергию на бесполезный свет. Зачем ему свет? Он находился в своей стихии. Для него не было ничего более естественного, чем движение в коридоре – не важно, сопровождалось ли оно непосредственным взломом или же он проделывал это заранее. В обоих случаях продолжительность существования коридора зависела исключительно от его намерений. Коридоры могли исчезать буквально за спиной и открываться на границе ауры – на жаргоне нигредо это называлось «идти буром».
Кое-кто из ему подобных предпочитал поддерживать свои коридоры открытыми постоянно. Это требовало лишних затрат энергии, но обеспечивало определённые удобства. Крайне редко он пользовался чужими коридорами – такое нарушение негласного кодекса чести низводило его до уровня жалких тварей вроде пустотников, не имеющих понятия о взломе. Кроме того, коридор мог быть закрыт в любой момент, и для любого чужака, застигнутого врасплох, это означало неминуемую смерть.
Ему иногда снился худший из кошмаров (как предупреждение или сигнал тревоги) – он оказывался не просто заживо похороненным в тверди; он становился частью тверди, размазанным отпечатком существа в её упрощенной структуре, но прежде подыхал с землёй в ноздрях и вмерзшими в базальт желудком и сердцем.
Всякий раз эти кошмары позволяли ему вовремя проснуться. И всякий раз, избежав опасности наяву, он думал: с чего бы это? Дурной сон – не обязательно следствие плохого пищеварения…
На исходе второго квадранта он решил сделать привал. Закрыл коридор на расстоянии десятка шагов в обоих направлениях, уселся, используя стену в качестве опоры, и достал из контейнера душу пустотника.
Ужинал он также в темноте. Ни один луч не должен был помешать восприятию вибраций, которые не имели ничего общего с видимым светом. Мерцание призрака в момент, непосредственно предшествующий поглощению, мог заметить только истинный гурман… или очень голодный нигредо. Он был очень голоден. И очень высоко ценил свой голод. Пока он был голоден, он двигался. А пока нигредо двигался, он чувствовал себя живым.
Три спирали спустя он вошёл в Лимб.
Эта пустота считалась нейтральной территорией, одним из немногих относительно спокойных мест. Иногда её также называли Зоной Любви. В Лимбе заключались сделки, продавалось и покупалось оружие, одежда, контейнеры для призраков, источники света, спиральные часы и прочие вещи, которые делают существование возможным, сносным и даже приятным – на определённое время, не более того. Здесь можно было взять проститутку или попытать счастья в игре. Сюда приводили захваченных пустотников, но рабство не практиковалось. Кто же захочет таскать за собой сквозь твердь обузу, которая лишает хозяина главного преимущества – мобильности?
Тут попадались тихие уголки, где раненые нигредо залечивали раны. Некоторые приходили в Лимб, чтобы умереть. Выбор последних он, мягко говоря, не уважал. По его мнению, покидать этот мир следовало так же, как входить в него – в одиночестве, хотя и через другую дверь. Исторгнутый Колыбелью, он, как и все остальные, испытывал смутную потребность в неё вернуться, но эта пустота никого не впускала обратно…
Размышляя о смерти, он пытался представить себе свои последние мгновения. Он предпочел бы умереть без свидетелей. И самому закрыть коридор, превратив свой кошмар в окончательную реальность. Ну а если смерть застанет его в какой-нибудь пустоте? Это было другое дело. Наличие вероятности того, что его собственный призрак может быть кем-то поглощен, ему очень не нравилось. Наверное, потому он и не любил пустоты, в которые рано или поздно его приводила необходимость поддерживать существование. Истинный бродяга тверди, он никогда не покидал бы её, если бы не проклятие, разделившее жизнь надвое: на краденый свет и мать-тьму.
* * *
Как только позади него закрылся коридор, он испытал то же, что и всякий раз, когда входил в пустоту. Агорафобия, которая следовала за ним неотвязной, невытравленной тенью, терпеливо ждала своего часа. И он её не разочаровал. Нападая, она словно в мгновение ока, одним движением сдирала с него кожу. Он ощущал её ледяные объятия каждым обнажённым нервом. Она не играла, она замораживала.
От этого нельзя было избавиться – оставалось только преодолевать себя. Ему казалось, что от него вот-вот начнёт отваливаться мясо и весь он, уже не сдавленный спасительной твердью, распадётся на куски. Угроза – мнимая или реальная – исходила отовсюду; он находился под ударом, точно выползшее из щели насекомое, и удар мог последовать с любой стороны. Даже без оружия он был в несколько раз быстрее и опаснее самого натасканного пустотника и всё-таки остро чувствовал измену сознания и плоти. В пустоте было нечто инородное, отторгаемое его сущностью, которая заключала в себе имманентный изъян. Боль неизменно служила напоминанием: он должен был знать своё место, а место нигредо – в непроницаемой тьме тверди.