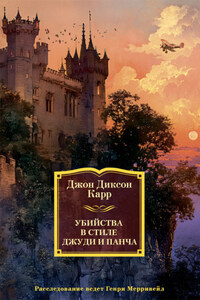Глава первая
Открытая дверь на Линкольнз-Инн-Филдз
– Странные преступления? – переспросил доктор Фелл, когда разговор зашел о том случае со шляпами и арбалетами и вслед за ним о еще более любопытной загадке перевернутой комнаты в Уотерфол-Манор. – Вовсе нет. Они кажутся странными лишь потому, что какой-нибудь факт изложен вне его правильного контекста. Например, – негромко продолжал он, увлеченно посапывая носом, – поразмыслите вот над этим. Вор забирается в мастерскую часовщика и крадет стрелки с циферблата больших часов. Больше он ничего не трогает, ни к чему даже не прикасается – только эти стрелки, не имеющие никакой особой ценности… Ну? Что бы вы сказали на это, будь вы полицейским, получившим такое известие? И раз уж об этом у нас речь, к какому роду преступлений вы бы его отнесли?
Я подумал, что у доктора просто разыгралось воображение, как это обычно бывает, когда он сидит в удобном кресле и рядом стоит кружка пива с пеной до краев. Поэтому я пролепетал в ответ, что, скорее всего, решил бы, будто этот человек убивает время, и замолчал, ожидая услышать презрительное фырканье. Но не услышал. Доктор Фелл сосредоточенно рассматривал кончик сигары; выражение его широкого красного лица и многочисленных подбородков из довольного стало задумчивым, насколько задумчивым вообще может стать подбородок, не испытывая при этом особых неудобств, а маленькие глазки прищурились за стеклами пенсне на широкой черной ленте. Некоторое время он сидел в молчании, натужно, с присвистом, дыша и поглаживая свои бандитские усики. Затем он неожиданно кивнул.
– Точно! – объявил он. – Кхэр-р-румпф-да. Вы попали в самую точку. – Он ткнул в воздух сигарой. – Именно поэтому убийство выглядело таким жутким, когда оно произошло, – там, знаете ли, было убийство. Мысль о намерении Боскомба нажать тогда на курок с единственной целью – убить время!..
– Боскомба? Убийцы?
– Всего лишь человека, признавшегося в намерении совершить таковое. Что же касается настоящего убийцы… Дело было весьма жуткое, как я уже говорил. На нервы я никогда не жаловался, – заметил доктор, с шумом втягивая воздух, тут же заплутавшийся в лабиринте его носоглотки. – Кхе. Нет, не жаловался. Такую броню, – он ткнул себя в бок, – сразу не прошибешь. Но я даю вам честное слово, тот проклятый случай напугал меня, а насколько я помню, такое со мной произошло лишь однажды. Напомните мне как-нибудь, я расскажу вам о нем.
Я так никогда и не услышал этого рассказа из уст самого доктора, поскольку тот вечер супруги Фелл и я провели в театре, а на другой день у меня уже все было готово к отъезду: я покидал Лондон. Сомнительно, однако, чтобы доктор стал подробно излагать то, как он любопытнейшим образом помог Департаменту уголовного розыска сохранить свое лицо. Тем не менее всякого, кто хорошо знает доктора Фелла, не могут не заинтересовать обстоятельства дела, которое заставило его испытать чувство страха. В конце концов я узнал обо всем от профессора Мельсона, сопровождавшего доктора Фелла в том расследовании от начала до конца. Произошло это осенью, за год до того, как доктор Фелл переехал в Лондон в качестве советника Скотленд-Ярда (причины этого переезда как раз и станут понятными в конце повествования). Это дело было последним из тех, расследование которых официально возглавлял главный инспектор Дэвид Хэдли перед самым своим выходом на пенсию. На пенсию он, однако, не вышел. Сейчас он суперинтендент Хэдли, и это также станет понятным. В силу того что некое лицо, игравшее в деле значительную роль, скончалось не далее как четыре месяца назад, исчезли последние препятствия к преданию гласности некоторых его важных деталей. Поэтому я излагаю здесь все факты. Когда Мельсон закончил свой рассказ, мне стало понятно, почему этот человек, обычно столь хладнокровный, навсегда сохранит предубеждение против застекленных крыш и золотой краски, почему мотив убийства был столь дьявольски тонок, а орудие – уникально, почему Хэдли считает, что дело это может быть названо «Делом Летающей перчатки» и почему, наконец, некоторые из нас навсегда запомнят загадку часового циферблата как величайшее дело доктора Фелла.
Это случилось вечером 4 сентября. Мельсон хорошо запомнил дату, поскольку ровно через неделю он должен был отплыть домой, чтобы успеть к началу осеннего семестра, открывавшегося 15 числа. Он чувствовал себя усталым. Судите сами, что получится за отпуск, если все лето уходит у вас на то, чтобы как-то поддержать свой академический престиж, выполняя такую весьма условную и трудоемкую повинность, как «публикование своих трудов». Работа над «Сокращенным изложением „Истории моего времени“ епископа Бернета, изданным и аннотированным доктором философии Уолтером С. Мельсоном» тянулась так долго и профессор так яростно не соглашался со старым сплетником чуть ли не по каждому пункту, что даже удовольствие уличить того во лжи – весьма, кстати, частое – не подогревало больше его энтузиазма. В тот вечер, однако, Мельсон постоянно ловил себя на том, что улыбается. Он чувствовал присутствие старого друга, тяжело шагающего рядом: силуэт его внушительной фигуры в невероятных размеров черном плаще и неизменной шляпе с загнутыми полями, какие носят английские священники, отчетливо выделялся в свете уличных фонарей, две его трости, по обыкновению сердито споря друг с другом, громко постукивали по пустынной мостовой.
Они возвращались пешком вдоль Холборна. Время шло к полуночи. Вечер выдался холодный и ветреный. Блумсбери[1] в это лето неожиданно оказался переполненным, поэтому лучшим, что Мельсону удалось подыскать для жилья, была неуютная квартирка из двух комнат – спальни и гостиной – на Линкольнз-Инн-Филдз; к тому же ему каждый раз приходилось преодолевать четыре лестничных пролета, чтобы до нее добраться. Они просидели в кинематографе гораздо дольше, чем предполагали: доктор Фелл, раболепный поклонник таланта мисс Мириам Хопкинс, настоял на том, чтобы просмотреть картину дважды. Но Мельсон днем сделал поистине редкое приобретение, натолкнувшись у Фойла на словарь средневекового латинского шрифта, и доктор наотрез отказался идти домой, не ознакомившись с этой замечательной находкой.
– Кроме этого, – пророкотал он, – не станете же вы уверять меня, что ложитесь спать в столь ранний час? Что, в самом деле? Дружище, вы меня разочаровываете. Будь у меня ваша молодость, задор…