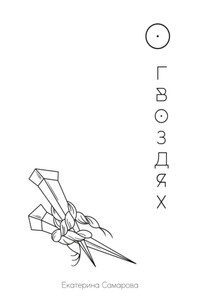I
Я стою на мосту. На мосту больше никого нет. Нет, это не совсем верно. Живого – никого. Только статуи. Они стоят по обе стороны моста, друг напротив друга. Всего их 30 штук. Они стоят, со всеми своими крестами и нимбами, склонив головы в молитве. А внизу, под мостом, бесшумно, течет река. Черная. Такая же черная, как мои ботинки и даже немного чернее. Ботинки отражают свет от фонаря, река же, напротив, свет впитывает. И бежит дальше, не создавая ни единого звука, до тех пор, пока не встретится с другой рекой – светлой.
Я стою на мосту, одетый в черное пальто и черные же узкие джинсы. За спиной у меня рюкзак, а вокруг шеи обмотан объемный красный шарф. На мосту прохладно. Я иду вдоль статуй, останавливаюсь напротив большой композиции распятия. Ночью, в свете стоящих по бокам фонарей, она выглядит мрачно. Она и должна выглядеть мрачно, думаю я. Несколько минут я стою, смотрю на фигуру на кресте и спрашиваю ее, правильно ли я сделал, что пришел сюда. Фигура ожидаемо молчит. Я смотрю на нее еще раз и иду к рыцарю, который стережет реку. Ему около пятисот лет и он очень молод. Каменный мальчик. Его почти не видно в темноте реки и ночи, только меч слабо поблескивает в свете фонарей. Я задаю ему тот же вопрос и он, так же ожидаемо, на него не отвечает. Живи я пятьсот лет назад, был бы я рыцарем, думаю я, облокотившись на парапет и зажигая сигарету. Может быть и да. Сейчас я слабо могу себе это представить. Я поворачиваюсь и иду, не смотря на статуи, обратно, в сторону башни, которая в темноте больше похожа на черное вытянутое пятно. У меня замерзли уши, и я наматываю шарф повыше, а потом тру одну ладонь о другую и несколько раз сжимаю и разжимаю кулаки. Становится теплее, но не сильно. Я останавливаюсь и опять стою на мосту. Стою на мосту и жду.
***
Утро началось с того, что я встал с кровати, взял книжку, которую читал вчера перед сном и пошел в ванную. Там я положил книжку на пол, сел на край ванны, закрыл глаза ладонями и начал делать цифровую гимнастику. Суть заключалась в том, чтобы рисовать глазами цифры от нуля до девяти, а потом от девяти до нуля, тем самым тренируя глазные мышцы. Потом я встал, ополоснул лицо над раковиной, вытер руки, поднял книжку, залез в ванну и включил воду. Жюльен Сорель уже влюбил в себя одну женщину и готовился влюбить вторую – уверенной поступью шел к своему концу, не произнося перед этим концом никаких исторических фраз об уникальности своей головы или экспедиции Лаперуза. Когда я читал эту книгу первый раз, Жюльен мне понравился. Своей целеустремленностью и, отчасти, искренностью. Сейчас он мне не понравился. Своим лицемерием и тщеславием. И отсутствием уважения к кому-нибудь, кроме себя. Читать эту книгу второй раз я стал просто так. Потому что возникло мгновенное желание. Короткая такая вспышка, без особых причин, но которая, тем не менее, породила навязчивое и неотступающее желание прочитать эту книгу именно сейчас. И я прочитал. Вылез из ванны, вытерся, пошел в комнату и поставил Стендаля на полку. Но особо глубоко задвигать не стал.
Потом я сидел на кухне и смотрел в стену, пока на плите кипятилась вода для чая. По утрам я никогда не мог съесть много и обычно это “немного” ограничивалось чаем и, может быть, парой яблок. Сегодня яблок у меня не нашлось, нашелся только чай – на донышке жестяной банки, буквально на одну кружку. Я сидел, смотрел в стену и думал, что надо бы как-то ее оживить. Сложная задача оживить что-то неживое, но вид голой стены по утрам стал меня угнетать. Вкупе с пустым чаем, чаем “с таком”, как я говорил в детстве, картина была очень печальная и пустая. На стене не было ничего, только ввинченный мною когда-то шуруп, который я ввинтил, чтобы повесить картину. Впрочем, картина на нем уже давно не висела, настолько давно, что я почти забыл, что на ней было изображено. Помню только, что она была нарисована мелками и очень сильно мне нравилась. Так сильно, что я в свое время потратил свое время, чтобы повесить ее на стену.
Почему-то на ум приходили полки. Хорошие полки смотрятся на любой стене, даже на той, которую я изучаю почти каждое утро, пока заваривается чай. Мысленно я перебирал все типы полок, которые когда-либо видел, но ничего выдающегося не находил. Разве что только те, волнистые, которые висели в чьей-то комнате давным-давно, когда в моей стене еще не было никакого шурупа, но разве же это для моей кухни? Не устраивать же на кухне библиотеку, как-то это пожароопасно. Я решил, что полками можно заняться в другой день, когда будут яблоки и что-то более осязаемое к чаю, нежели праздные мысли. Надо было выходить на улицу, хотя бы потому, что из всех возможных видов смерти, которые я себе представлял, смерть от голода смотрелась лишь слегка выигрышней, чем смерть похороненного заживо человека.
Погода на улице была славная. Пару недель назад еще лежал снег, а сейчас от него осталось лишь воспоминание, причем, такое, к которому не очень-то хочется возвращаться. Правда, снег, по своему обыкновению, как раз любит возвращаться, но пока было просто чудесно – тепло и солнечно. Я надел неглаженную футболку с длинным рукавом и старенькие, на редкость прочные, джинсы, накинул пальто, пренебрег шарфом и вышел из дома. Как только я вышел, я сразу забыл, что дома нечего есть и решил просто походить по улицам и порадоваться внушающей надежды на будущее погоде. По этим улицам, пусть и в разных городах, я ходил всю свою жизнь, сначала неуверенно и любознательно с родителями, затем опрометчиво и горделиво с приятелями и любовями, а потом, уверенно и настороженно, один. Сложно сказать, как мне нравилось больше всего. Иногда – одному, иногда – с кем-то. Зачастую мне нравилось одному, когда я был с кем-то. И наоборот. Если долго ходить по улицам, устают ноги и спина. У меня всегда устает спина, когда я хожу и гораздо реже ноги. Зная это, я постепенно выработал некий метод прогулок – в смысле времени, а не маршрута. Я стараюсь не ходить больше двух часов без перерыва, да и вообще, не находиться на ногах такое продолжительное время. Ровно так же я стараюсь не сидеть больше двух часов – мне почему-то кажется, что это, своего рода, граница, за которую опасно заходить. Через два часа ходьбы я захожу в кафе пообедать, либо выпить пива или кофе, а если мне приходится сидеть, скажем, шесть часов, за это время я отжимаюсь девяносто раз или просто периодически разминаю ноги.
Я довольно давно жил в этом городе, чтобы он успел мне надоесть, но он почему-то все не надоедал. Раньше я жил в другом, но это было давно, настолько, что придется считать, чтобы сказать точно. Я не очень люблю все эти истории в духе Дэвида Копперфильда, хотя, возможно, кому-то интересно узнать прежде всего именно это. Где я родился, как прошло мое дурацкое детство и все прочее. Я не очень люблю думать об этом. Вполне хватает того, что я родился и сейчас веду мою так называемую жизнь. Когда-то она была жизнью, с большой буквы, с надеждами, целями и планами, или, по крайней мере, казалась такой. Но, поскольку по истечении нужного количества времени ложь становится правдой, а правда – ложью, все это куда-то потерялось. Как будто летишь на воздушном шаре и приходится сбрасывать за борт лишнее, чтобы продолжать жить. И сначала выкидываешь свои планы на ближайшие пару лет, потом все остальное, пока не останутся только мечты, которые тоже рано или поздно выкидываешь. Потому что подсознательную тягу к жизни выкинуть нельзя. Я никогда не летал на воздушном шаре. Вполне вероятно, что ситуация, когда приходится скидывать что-то за борт, вовсе необязательна. Скорее даже, такая ситуация называлась бы внештатной, вызванной либо ошибкой при проектировании этого шара, либо какой-то внезапной поломкой. Я не могу быть уверен полностью, я никогда не летал на воздушном шаре и никогда не уделял этому средству передвижения того внимания, которое оно заслуживает.