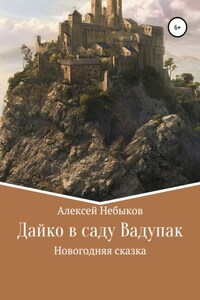– Сергей Александрович, всё! В конец увязли! Сделайте одолжение, переждите вон в той церкве, где тихий свет мается! Дальше сегодня никак нельзя. А я приберу тута, да за вами…
– Поступай, как знаешь! – недовольно, но с некоторой искрой чаяния нового стечения, прокричал в ответ невысокий, коренастый парень и спрыгнул с коляски, направляясь к деревянной, совсем почерневшей церкви, сиротливо стоявшей на небольшом отдалении от дороги.
Кругом стояла ночь непроглядная. Дождь заливал весь минувший день, дорогу разъело и не было никакого средства, чтобы справиться с распутицей. Надлежало ждать, пока кругом пообсохнет.
Сергей шел вдоль погоста, мимо покосившихся крестов прочь от дороги и удивлялся, отчего хоронение устроили на подходе, а не как принято, подальше от глаз, на заднем церковном дворе.
– Спаси и сохрани! – решительно проговорил, осеняя себя крестом, Сергей, забегая по высоким ступеням под своды обители, и звезды вдруг проглянули кое-где на небе, но в тот же час тучи вновь набежали на них, нагнетая бессветие.
Снаружи церковь всю окутал закостенелый мох, и, если бы в окнах не светился огонь, любой бы подумал, что в приходе давно уже не отправлялось никакое служение. Внутри было манко, натоплено и безлюдно. Свечи окрашивали почти каждый образ и что-то вытянутое стояло на возвышении в центре, перед самым алтарем.
Сергей перекликнулся, оглядывая темные углы церкви, куда не доносился разлитый у образов свет, но голос его не грянул, совсем утратив металл. Он хотел было разрешиться сильнее, но внезапный гулкий скрип остановил его. Обернувшись на звук, он увидел у неясного, таинственно расположенного посередине предмета вдруг появившуюся девушку.
– Зачем шумишь? Время покойное будоражишь, – тихо проговорила она и точно нерешительно, не переступая, а скорее проплывая над землей, стала приближаться к парню.
– Край ты мой заброшенный. Край ты мой, пустой! Милая, глухомань-то какая у вас тут. А я застоялся в дороге, не даются пути. Забежал сердца чуткого увидеть, а здесь – умирения тоска. А мне нужно, сильно нужно доехать до ладной своей Изадоры. Зацелую допьяна! Изомну, как цвет!.. – зазвучал нараспев Сергей.
– Ясно… Веселый ты, складный. А у меня как с прежним назначенным разладилось, так и не найду себе путника по жизни согласного, – почти зашептала, приближаясь к парню, девушка, и резвый, остылый ветер заносил вдруг ее слова по сводам церкви и по укрытым мраком углам.
– Небось, милая. Найдется он, – и Сергей с удовольствием приметил какая исключительная к нему приближалась красавица с раскосмаченной косой, с длинными ресницами, кожей, ослепляющей, как снег, с устами малиновыми, с чертами лица резкими, жгучими, опасными для любого молодого сердца.
Что-то страшно-пронзительное вдруг затрепетало на душе у Сергея, и он решился спросить:
– Говоришь разладилось с прежним. А что так?
– Так сгинул он али сбежал… Почем я знаю. Дед Векий его сохранял, а он нелюдим и угрюм у меня. Может и ты его увидишь, если не сладимся.
«Эге, да это ведьма, – догадка жуткая вмиг поразила Сергея. – Или чего плоше – покойница. Вон и гроб под сводами раззявенный стоит…».
– Ты вот что, послушай, милая. Мне же никак нельзя, любовь у меня, понимаешь. Глупое, милое счастье! Свежая розовость щек! Нежная девушка в белом! Нежную песню поет!
– Какая еще любовь? Вклепался просто, остынешь, – или околдовала. В неосвященном браке живете, пристрастием проникаетесь. Нет уж, не будет дороги тебе теперь обратной, – в тот же миг хлопнули ставни церковных окон, вихрем загасились свечные огни, писком нетопырей заполонилось подсводное пространство, и заблестели в темноте совсем рядом с Сергеем глаза незнакомки.
Пробудившись в холодном поту, увидел Сергей Александрович привычную столичной квартиры обстановку, расслышал движение знакомых ему по легкой поступи ног и прокричал:
– Знаешь, Дунька, думаю нам гоже благословить наш союз, обвенчаться! Сегодня же! Что скажешь?..
Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти.
Вторая книга Моисея, Исход, глава 21, стих 15
В эту ночь Гаре снился сон, будто отец его крепкий, всегда сдержанный, легко отбросил дубовую дверь и впустил в избу ароматы горького костра, утренней росы, окалины металла и свежеубитой птицы. Раскинул в стороны сильные руки и обнял дочь Милку. Она младше, сперва ее, а потом и его, Гарю, прижал к груди. Тут же при входе в углу отец поставил ружье, грозное, манящее, такое для Гари желанное, и, поцеловав мать, сел, не раздеваясь, за стол.
– Батя, батя, – закричал во сне Гаря, вцепившись в крупную пуговицу отцовского бушлата, – а ты чего не умываешься, полевое с себя не снимаешь?
– Так ведь съели уже всё, гляди, Гаря. И мне сызнова в лес пора, – добродушно отвечает отец, подхватывая сына к себе на колени.
– Как съели?.. – нерешительно повторяет Гаря, и на его глазах мама выносит шкворчащее жиром блюдо с кряквой, ставит на стол.
Запечённая, ещё лоснящаяся корочка птицы обещает хрустящий восторг, а дымящееся мясо – нажористое удовольствие. Живот у Гари разом подводит, скручивает в ожидании мясного насыщения. Но вдруг это большое, неразрезанное ещё лакомство распадается на сочные золотые куски и враз съедается. Гаря видит теперь лишь остатки жира, чеснока, пряных трав на блюде. Тем временем мать уже беззаботно хлопочет в бабьем куту́, сестра на полу запускает волчком катушку от ниток, а отец шепчет что-то невнятное горячим своим дыханием. Лишь деда в комнате нет, и Гаря, не видев того, кто съел весь обед, раздраженно думает недоброе на него. Ведь именно дед любит приуснуть где-то в тихом углу дома после питания.
Обозлившись решительно, Гаря вскакивает с коленей отца и пробуждается, обнаружив себя на печи.
Вихрем спрыгивает на пол Гаря, собирает на себе штаны, различает растопленное горнило и похлебку, закипающую в нем, значит, вернулся с охоты отец. Вот и дверь отворяется, и заходит родитель с дровами – точно леший после долгого похода, поизбитый непогодой и холодом, с разлохмаченными бровями, усталыми черными глазами, густой, небритой, жесткой бородой.
Отец привечает Гарю, жалеет, что не добыл ничего лакомее воро́н, и обещает преуспеть в иной раз. Мать возится с варевом, Милка накрывает на стол, дед, лежа на полатях у окна, посасывает маленький сухарик, завернув хлеб в тряпочку, сберегая силы и живость.
Годы высушили деда, обсыпали голову снегом, но он все так же бойко шаркает ногами, а в повадке его и в наружности никак не различить ни приговора, ни робости. Дед по-прежнему держит крепость. Пусть уже и не занимает главное место за столом, но все еще умеет разместить себя в доме так, чтобы быть у всех на виду, чтобы найти для себя от других реакцию.