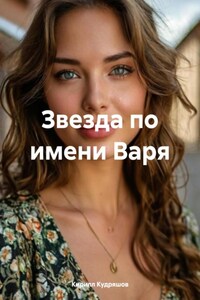В те короткие мгновения, когда полуденное солнце, вспыхнув на Спасе, освещало Лёшину квартиру, она превращалась в телевизионный павильон, залитый лучами софитов. Каждая деталь начинала пылать и светиться, меняя свой привычный облик и цвет и выдавая себя за что-то совсем другое.
В такие минуты Лёша страдал: приходилось жмуриться, отрываться от мольберта и находить себе вынужденное занятие. Он направлялся к холодильнику и вынимал банку пива, но спасения от яркого света не было и на кухне: каким-то неведомым образом поймав луч солнца, банка ослепляла его в тот самый момент, когда он уже готовился опрокинуть в себя её прохладное содержимое.
Занавесок, штор и жалюзи Лёша не признавал, поэтому приходилось терпеть. По счастью, солнечные софиты горели недолго, и в квартире снова воцарялся мягкий рассеянный свет.
Если Лёша не любил яркий свет и болезненно переживал его домогания, то для Ани он был самым желанным гостем. Правда, радовалась она не столько за себя, сколько за своих подопечных, захвативших оба подоконника и выглядывавших из небольших горшков. В пасмурном Питере растениям не хватает света, и почему-то именно этот довод казался Ане самым убедительным для того, чтобы приносить с биофака всё новые и новые экспонаты. Лёша ворчал, но незлобиво, утешая себя тем, что некоторые ведь тащат в дом кошек и собак, а тут – всего лишь цветочки.
В остальном пожаловаться ему было не на что: богатые клиенты, очаровательная подруга, собственная квартира в центре города и крепкое здоровье помогали – да что там: обязывали уверенно смотреть в будущее.
***
Аня ещё не вернулась из университета, и Лёша мог спокойно, смакуя каждый штрих, закончить очередной заказ. А тут было что смаковать: воспроизвести нужно было самого Ренуара, и профессиональная гордость не позволяла опустить планку – даже если речь шла о сделанной на заказ копии.
«Классное место, – думал Лёша, рассматривая свою работу и проверяя, не забыл ли он в точности повторить все изгибы ветвей и не потерялся ли случайно один из парусников. – Надо бы туда как-нибудь съездить». Он ещё раз окинул взглядом натянутый на подрамник холст, бросил кисти в стакан и переставил картину в тёмный угол. Оставалось вставить холст в рамку и позвонить заказчице.
Спокойное, можно сказать безмятежное, состояние Лёши было нарушено появлением Ани. Сказать «появление» – это не сказать ничего: запыхавшись от подъёма на четвёртый этаж, она шумно ввалилась в дверь с двумя большими чёрными мешками.
Ане хватило двух секунд, чтобы оценить ситуацию:
– Лёш, зачем ты её прячешь? Я ещё не налюбовалась.
Лёша пропустил её слова мимо ушей.
– И тебе привет, красавица. И что же это мы принесли? Постой, постой, не подсказывай. Попробую угадать: там новые горшочки. Какая удача! У нас ведь дома ни одного зелёного листочка.
Аня сдёрнула косынку, и не её плечи тут же упали роскошные локоны.
– Ладно тебе. Ты же и так всё знаешь. Антонина опять собиралась их выбросить. Понимаешь? В мусор! Ну, разве так можно?
– Не-е, так нельзя. Можно только к нам.
Аня скинула туфли и мягко, по-кошачьи подошла к Лёше.
– Лёшик, ну ты же хороший, правда? И ты мне не ответил про новую картину.
Лёша самодовольно хмыкнул.
– И чем это вам, Анютины глазки, так приглянулся Ренуар? Обычная копия. Ладно, любуйся – подержу ещё пару дней. – Он осторожно переставил картину на письменный стол.
Аня заворожённо разглядывала незнакомый пейзаж, который на новом месте выглядел иначе, более сумрачно.
– Я опять забыла, как это называется.
– «Нуармутье».
– Точно. А что это значит?
– «Чёрный монастырь».
– Правда? Такое солнечное место – и такое мрачное название. А почему чёрный?
Лёша обернулся к Ане и прищурил глаза.
– Потому что когда-то на этом далёком острове стоял монастырь, и, – Лёша внезапно выпучил глаза, – чёрные монахи выкрасили его в чёрный цвет.
Аня легонько стукнула его по плечу.
– Ну, и очень глупо. Ты же знаешь, что я боюсь чертовщины.
Лёша притянул её к себе и прошептал:
– Я тоже, красавица, но с тобой мне ничего не страшно.
***
В детстве Аня была равнодушна к куклам, предпочитая им всевозможную живность. Её интересовало всё, что прыгает, ползает, скачет, летает и цветёт. Правда, до самого поступления на почвенно-биологический факультет она не могла решить, чему отдать предпочтение – флоре или фауне.
Определиться помог необычный эпизод.
Накануне последнего вступительного экзамена в коридоре университета она столкнулась с забавным старичком, который нёс под мышкой какой-то диковинный цветок и при этом разговаривал вслух. Не увидев никого поблизости, Аня поинтересовалась, с кем это он беседует. «Как это – с кем? Конечно, с ним», – ответил старичок и ткнул пальцем в растение, которое, как показалось в тот момент Ане, замерло и перестало колыхаться в его руках.
Аня увязалась за старичком, который оказался старшим лаборантом ботанического сада. Попозже, когда они познакомились получше, выяснилось, что никакой это не старичок, а просто рано поседевший, сухонький, сморщенный человечек неопределённого возраста. Звали его Николаем Николаевичем, но все называли его просто Колянычем, против чего он ничуть не возражал.
Именно Коляныч открыл Ане удивительные свойства растений. Не успела она поступить, как он разрешил ей посещать созданный при ботаническом саде небольшой питомник и оставаться там столько, сколько захочется. Мало интересующийся окружающими событиями, почти не замечающий других работников факультета из-за своей фантастической близорукости, Коляныч жил только своими зелёными питомцами – в первую очередь цветами. Склонившись к очередному растению и чуть ли не водя по нему носом, он запоем рассказывал Ане про цветы, встретив в ней не только благодарного слушателя, но и близкую душу. Как и Коляныча, Аню нисколько не удивляло, что цветы могут любить и ненавидеть, бояться боли и радоваться заботе. Для неё это было так же естественно, как признавать наличие чувств у любого живого организма.
Коляныч глубоко презирал учебный процесс, утверждая, что вся программа рассчитана на формирование бездушных материалистов. Для него же растительный мир был наполнен теми же энергиями и эмоциями, что и мир животный, но в более тонком исполнении.
«Смотри, – говорил он Ане, хватая её за локоть и задерживая дыхание, – сейчас он тебе кивнет». Аня замирала с лейкой в руке, из которой она только что полила неприхотливый цветок, и её большие глаза становились ещё больше, когда, при полном отсутствии какого-либо колыхания воздуха, она замечала, как медленно наклоняются и снова застывают листья.
Коляныч открыл ей глаза на удивительные вещи. Оказалось, что растения узнаю́т тех, кто за ними ухаживает: например, достаточно поднести руку, и вайя – лист папоротника – потянется к ней. Узнала она и многое другое: что растения умеют лечить, что они понимают наши мысли, что они видят, слышат, обоняют и умеют разговаривать. В последнем она уверилась, когда Коляныч показал ей расшифровки каких-то едва уловимых потрескиваний, которые издают растения, ощущая тепло, холод или жажду. Конечно, в официальной программе обо всём этом либо не говорилось вообще, либо упоминалось вскользь как о причудливых гипотезах, не отвечающих критериям «серьёзной» науки – той науки, для которой любые подобные идеи являлись покушением на верховенство человека, царя всего живого.