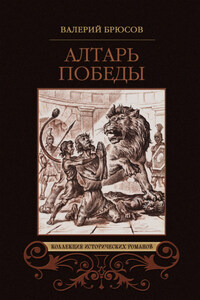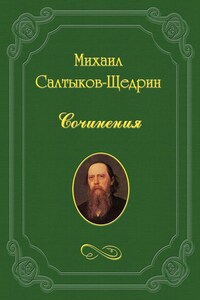«В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией», – писал я в 1906 г.[1] Уже тогда мне пришлось выразить эту мысль в прошлом времени: «царил», а не «царит». Рядом, в той же статье, откуда взяты эти слова, мне пришлось говорить о «бесспорном падении» Бальмонта, о том, что его новые стихи (т. е. середины 900-х годов) «поэтически бессодержательны, вялы по изложению, бесцветны по стиху», что в его последних книгах («Литургия красоты», «Злые чары», «Жар-птица») есть все, что угодно, «нет лишь одного – поэзии»[2]. И это было пятнадцать лет назад, когда еще никак нельзя было предвидеть, что с именем Бальмонта появятся такие позорные страницы, как собранные в книгах «Зарево зорь», «Перстень» и т. под.
Да, было время, – которое ныне еле помнят «старожилы» литературы, – когда Бальмонт «нераздельно царил над русской поэзией». В первые годы этого века чуть не все молодые поэты были «бальмонтисты», писали под Бальмонта, его стихом и его словарем. Но когда в 1919 г. я был избран председателем Всероссийского Союза поэтов (организации, одно время, видной и многочисленной) и, по должности, невольно сблизился с массой, по крайней мере московских, начинающих стихотворцев, – меня поразило то единодушие, с каким все они высказывали самое отрицательное суждение о Бальмонте. Были, конечно, исключения, но именно исключения: в массе, в целом, молодежь последних 3–4 лет, пишущая стихи, отрицала и отрицает Бальмонта. Она не хочет признать даже его исторических заслуг пред нашей поэзией. И «бальмонтовская повадка» в современных стихах становится все более и более редким явлением.
Недавно мне пришлось беседовать о Бальмонте с одним товарищем, моложе меня немногим, человеком широко образованным и живо интересующимся искусством[3]. Он, между прочим, сказал мне: «Я перечитываю Бальмонта, и теперь мне даже непонятно, как мог он когда-то нас увлекать; как могли мы в его стихах видеть что-то новое, революционное в литературном отношении: все в стихах Бальмонта – обыкновенно, серо, шаблонно». И когда я слушал эти слова, мне казалось, что они формулируют мое собственное мнение, потому что я тоже недавно «перечитывал» Бальмонта, и тоже почти недоумевал, как мог я когда-то сказать, что «другие поэты покорно следовали за ним (за Бальмонтом) или с большими усилиями отстаивали свою самостоятельность», или утверждать, что «как дивный мастер стиха, Бальмонт все еще не знает себе равных среди современных поэтов»[4]. Сейчас для меня стихи Бальмонта «остывшая зола» Тютчева, и почти не верится, что некогда они горели, и светились, и жглись.
Сам Бальмонт, в предисловиях к отдельным томам своего 1-го «Собрания стихов», озаглавленных им «Из записной книжки», дал собственное истолкование эволюции своей поэзии: нарисовал путь, по которому она, по его мнению, шла, или по которому ему хотелось бы чтобы ее видели идущей. «Оно началось, – пишет Бальмонт, – это длящееся, только еще обозначившееся (помечено 1904 г.) творчество – с печали, угнетенности и сумерек. Оно началось под Северным небом, но, силою внутренней неизбежности, через жажду Безгранного, Безбрежного, через долгие скитания по пустынным равнинам и провалам Тишины, подошло к радостному Свету, к Огню, к победительному Солнцу. От книги к книге, явственно для каждого внимательного глаза, у меня переброшено звено… От робкой угнетенности к Царице-Смелости с блестящими зрачками, от скудости к роскоши, от стен и запретов к Цветам и Любви, от незнанья к счастью вечного познанья, от гнета к глубокому вздоху освобожденья…»[5] Ту же схему Бальмонт предлагает читателю п в разных программных стихотворениях, написанных вовсе не «как облачко плывет» (обычное изображение Бальмонтом процесса его творчества), а весьма сознательно, обдуманно и надуманно:
Из-под северного неба я ушел на светлый Юг,
Где звучнее поцелуи, где пышней цветущий луг.
Чахлые сосны к Лазури дорогу найдут!
И облако зажглось, пропизанное светом
Непобедимого луча!
Я устал от нежных слов…
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!
и т. под.[6] Почти в каждом сборнике Бальмонта, особыми стихотворениями, объясняется читателю, что за этап в эволюции автора представляет данная книга. И эти чисто рассудочные толкования (повторяю: у поэта, который уверяет, что в его стихах нет ничего рассудочного) доходят до такой мелочности, что, напр., в конце «Горящих зданий» точно предуказано содержание следующего сборника «Будем как солнце»:
Но еще влачу я этой жизни бремя,
Но еще куда-то тянется дорога…
…………………………………………………
Раздвинулась до самых берегов,
И смыла их – и дальше – в море Света…
[7]Однако совершенно иное впечатление получается, если обращаешься не к предисловиям и не к пояснительным стихотворениям, сочиненным ad hoc [для данного случая (лат.)] (на этом последнем выражении настаиваю), а к самой поэзии Бальмонта. Известная «эволюция», некоторое развитие, какое-то продвижение, разумеется, в пей есть, – да и не могло бы его не быть, ибо живой человек так или иначе, неизбежно, меняется. Но эта эволюция далеко не так резка и отчетлива, как это хотелось бы видеть самому автору, да, может быть, и далеко не такова, как он ее изображает. Вместо прямой «дороги к Лазури», отвесного восхождения «с морского дна» – «к Солнцу», видишь скорее блуждания по кругам, все вокруг одного и того же центра, только немного расширяющимся.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru