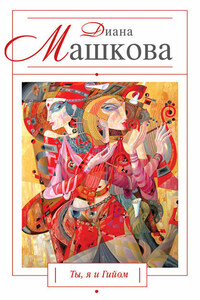Суббота, 15 октября 2005 г. Милан
Нет мучительней дней в году, чем серединная октябрьская неделя, отрезающая шлейф лета. Фиеста окончена, отфланировано, отплавано. Хрен вбредешь в мутноватую водицу в Лигурии, хрен наденешь гавайскую размахайку.
Загар еще не начинал слезать. Что ж, будет стариться под застегнутыми манжетами. После Франкфурта, где помоги вообще бог перекрутиться без снега, а уж фирменный ярмарочный дождь заложен в программу, не отбояриться! – намокнешься у фрицев, по возврате в Милан ждет промозглая осень.
Это в перспективе. А пока что балкон залит солнцем. Оттуда входит пышноволосая тень.
– Мирей, привет! Долетела! Быстро как! А это что у тебя в волосах – карандаш?
– Вместо заколки.
– Интересно. Только в твоих пружинах может держаться. Рад тебя видеть.
Виктор дожевывает тост, утирается, перепасовывает в мойку стакан, чашку. Мирей уже тут, а он еще завтракает, идиот.
– Хочешь тост?
Она не хочет тост, она работать приехала. Отныне она приезжает только работать. Как будто ничего не было. Солнце яркое, погулять бы как раз сегодня. Как же, погуляешь с этой Мирей, с Бэром этим, с Наталией тоже… Кругом стахановцы.
– Ты у нас типичная стакановка.
– Что бормочешь, не разобрала.
– Думаю, по-французски будет так. У итальянцев он точно «Стаканов». Советский шахтер, много угля добыл. А по-русски – фамилия будто от «стакан». Из которого пьют водку. Звучит комично. У вас во Франции Стаханова не знают. И я, покуда жил во Франции, не знал. При всем моем русском происхождении.
Странно даже, размышляет Вика, как я это в детстве от мамы не слышал. Видно, к случаю не пришлось. А ведь сколько она всего русского в Париже нарассказала, начитала вслух. Но о Стаханове узнал, только когда переехал в Милан. Двадцать три тому назад года. Тогда в моде был советский лексикон. У его итальянских дружков был в моде.
– А я, Мирей, жду от тебя последний вариант франкфуртских переговоров. Расписание, или ростер, как ты выражаешься. Жареный петух… У меня он трехдневной несвежести. Вот гляди: «Франкфуртская книжная ярмарка. Агентство “Омнибус”. Встречи Виктора Зимана. Последние изменения внесены Мирей Робье 12.10.2005». А сегодня пятнадцатое.
– Так ведь послала тебе файл из Парижа, ты не подтвердил получение.
– А у меня письмо стерлось по ошибке.
– Говорят, уже придумали систему, чтобы письма оставались на сервере и можно было их повторно скачивать. И из других компьютеров почту проверять.
– Неужели. Вот это я понимаю, дело! А то привязаны каждый к своему «Бэту», как каторжник к ядру. Надо бы эту новую систему поставить поскорее всем нам в агентстве.
– Поставить можно. Да ты же вообще мейлы не смотришь. Переправляешь их мне, чтобы отвечала. Кроме мейлов из «Ла Стампа», конечно!
Мирей явно хочет сказать: «Кое-какие мейлы от твоей зазнобы я все же нахожу в рабочей почте».
– Я сам стараюсь на все отвечать, Мирей.
– Оно и видно. Не важно. Вчерашние ростеры, естественно, устарели. Все опять переставилось. Скину тебе новую таблицу. Где, вот тут под столом, да, хвостик для интернета? Подключаю?
Под окнами профессионально высвистывает – почему-то не в свисток, а в два пальца – лысый, прыгучий пенсионер. За летнее время в Милане, за послеполуденное судейство обуглился до коричневости. Энтузиаст. Двор Викторова дома превращен в футбольное поле: незагроможденное пространство-параллелепипед плюс добросердечные, а может, слабохарактерные жильцы. Субботами подростки четырех околотков, братва из соседнего реального училища против сборной команды обитателей Навильи, гоняют мяч в торцовой части Викторова тупика. Мяч шибается о тарелочные антенны, о мусорные баки, которые, хотя и вдвинуты в ниши фасадов, подвертываются под горячую ногу. Раньше подобные дома, парадными окнами на улицу, скудными балюстрадами во двор, с проходом в квартиры по чугунным балконам наподобие нью-йоркских (в конце такого балкона до войны обычно размещался единый на весь этаж клозет), эти дома на ломбардском севере назывались галерейными («ди рингьера»), в них обитал пролетариат. А теперь тут дизайн-богема и арт-бомонд. В этом районе особенно. На каналах. По-итальянски они «Навильи».
Стираное белье тем не менее, как и в люмпен-времена, полощется между окнами. Развешано оно и на ярусах, на никелированных раскоряках. Белье, конечно, страдает от футбола. Видавшие виды первоэтажные жильцы баррикадируются пузатыми прутьевыми частоколами. В выпученные с завитушками пазухи ограждений вставлены горшки гераней. Герани дрожат и опадают даже не от стуканья мяча, а уж и от одних его бурных перелетов.
Да, это спелая серединно-октябрьская суббота. Солнечно, ветра нет, есть только выникание ароматов из черного хода пекарни – прогретого розмарина, олея. С набережной долетает цоканье каблуков, и шваркают по булыжникам металлические стулья, запинаясь о ножки столиков. Ножки, ножки. Стульев и дам. Сколько чудесных дамских но… номеров скоплено в сотовом телефоне, нажать бы кнопочку. Так нет. Вике Зиману по службе положено сидеть тут и скучать, как в самый гнусный понедельник, по выражению одного неизвестного на европейских широтах песенника, насмерть надорвавшего в Москве в горячке олимпийского лета, ровно двадцать пять лет назад, хрипучую глотку. Ни в бесчувственной к горлопану-поэту Франции, ни в сердечной Италии, которую тот понапрасну очаровывал, никому ничего не говорит его гремевшее в СССР имя. Никому, кроме Виктора. А ведь когда с крыши киоска Вика фотографировал Таганскую площадь, в июле восьмидесятого, вспученные от пота рубахи милиционеров, гирлянды голов, свесившихся с карнизов и с крыш над колоннами тех, кто плакал и слушал разнобойные, разбойничьего хрипа, магнитофоны – песни неслись из раскрытых окон, с подоконников, – казалось, что это самые многолюдные похороны на Земле.