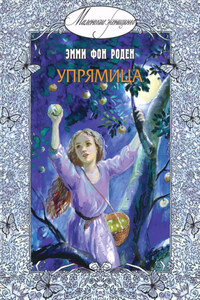ЦВЕТ БЕЛЫЙ
Я – Юнус эфенди, сын Нурмагомеда,
живу и умру на земле предков.
Отец мой два раза побывал в Мекке
на белом верблюде,
и там же счастливо почил
в шаге от рая.
Рассказывают,
я в морозный день родился,
Точной даты никто не знает,
но помнят, что в ту ночь
волки с миром вошли в хлев,
чтобы согреться дыханием коров.
Обошлось без крови,
но коровы перестали
давать молоко.
Хлопья бесконечного снега
белизной покрывали пути и леса,
слепили окна домов.
Дороги тогда замело,
Кобыла в сугробах завязла,
когда к повитухе спешили
и роды пришлось принимать отцу.
Мать страдала в потугах,
сползая с перин на жесткий килим,
что лежал на полу.
Стонала, волчицею выла, шептала молитву,
ногтями впивалась в узоры ковра.
В это мгновение, спасаясь от стужи,
влетела, ворвалась большая птица,
раня об осколки белые крылья,
закружилась над мамой, роняя перья.
Неожиданный страх пересилил страдания,
мать исторгла меня, и я выпал
на палас из шерсти агнца,
когда-то похищенного
дядей Махмудом
в соседнем селе.
Потом наступила весна,
растаял снег, горы воскресли,
родники проснулись,
блестя серебром.
Реки потекли туда,
откуда возвращались
перелетные птицы.
И мать отстранила меня от груди,
но я продолжал созерцать
снег и молоко,
снег и молоко год за годом.
Каждое утро я кормил белую кобылу,
щекотал себе лицо пером израненной птицы.
Спустя годы мне открыли тайну:
кобыла была саврасая,
а перо птицы – тоже не белое,
И я с горечью понял,
что пришел в этот мир
наполовину слепым и наполовину зрячим.
Поле моего зрения лишено красок, света и порядка,
все вокруг меня свалено, как попало,
так ощущает себя человек, слышащий речь,
но не музыку.
Только белый цвет подавал надежду,
сохраняя свою непорочность, как молитва.
Я видел мир простым и скучным,
различал цветы по запаху
и все равно тысячу раз благодарил Бога,
ибо нет ничего прекрасней трепетного белого цвета
для того, кто может созерцать только белое.
Так я и рос, легким, как пух, и счастливым, как пчела,
помогая отцу на пасеке, а маме, – в хлеву.
На лугу я носил косарям воду из родника
и бегал за белыми бабочками,
улыбаясь их порханью.
Рос послушным и трудолюбивым,
задавал вопросы, я был любопытным,
потому как весь мир для меня состоял из догадок.
Когда мне минуло двенадцать, я понял,
снег – ни при чем,
я заблудился в себе.
Беспомощность приумножалась сверстниками, –
они смеялись надо мной во время новой игры:
«Угадай-ка цвет» для меня придуманной,
это был заговор, ради забавы.
Но я терпел и продолжал любить смешливых сверстников
и верил, что неправильно оцененный мой изъян
однажды приведет их к покаянию.
Я любил всех жителей родного села,
вглядывался в их лица, –
невинные, сияющие и светлые,
таким я видел даже дядю своего Махмуда,
ловкого конокрада и разбойника.
«Дядя, – однажды сказал я, –
научи меня различать хотя бы красный цвет,
никак не могу угадать его,
и всякий раз проигрываю сверстникам».
Дядя вышел во двор, схватил белую курицу и сказал:
«Отрежь ей голову, и ты увидишь красный цвет.
Этим самым заслужишь уважение ребят.
Пойми, мальчик,
над тобой смеются не потому, что ты не различаешь цветов,
а потому, что ты – невинен».
Но я выпустил курицу в объятия ветра
и, плача, побежал в виноградники к дедушке Исмаилу,
старцу с рябым лицом и седой головой.
Он осушил мои слезы рукавом рубашки,
пахнущей потом и сказал:
«Дитя мое, в столь раннем возрасте
ты стал заложником собственного бремени.
Невинность прекрасна,
но она прекрасна до тех пор,
пока не выглядит, как величайшее злодеяние,
и тогда даже отец может убить сына,
как это сделал султан Сулейман,
умертвив Мустафу, явившегося к отцу в белых одеждах.
Я не позволю тебе замкнуть круговорот,
и переступить эту тонкую грань.
Чует мое сердце зыбкую связь твоей неприкаянности перед Богом.
Нежность и печаль научили тебя одиночеству в толпе и сохранению,
ты уже умеешь защищать свое сердце от вторжения
посторонних ощущений,
и потому твоя душа готова к созерцанию Всевышнего.
В твоей душе обида,
как на пальцах перламутровый след упорхнувшей бабочки.
Я помогу тебе различать все краски мироздания,
ибо все цвета будут в тебе самом,
подобием твоих чувств и ощущений».
А потом он срезал гроздь винограда и сказал мне: «Ешь».
Я вкусил плоды, а косточки отдал земле
с надеждой, что когда-то и они произрастут золотыми гроздьями.
«Ягоды вкуснее, но семя – полезней, дитя мое, – молвил старик, –
посредством косточки ты ощутишь далекий вкус самого плода,
как только она перестанет быть для тебя горькой.
Познав Бога, сущность, ядро, горькую косточку,
ты увидишь истинный свет, который облекает мир в цвета.
Приходи завтра утром ко мне в мастерскую».
– Научусь ли завтра разгадывать все цвета?
– Не все сразу, дитя мое, а то можешь обжечься.
– А, что значит «обжечься», дедушка? – не унимался я.
Тогда он взял меня за руку и повел на луг,
где, словно головные уборы суфиев,
возвышались еще не убранные стога,
еще не собранная скошенная трава.
Старец снял свои очки и сказал:
«Подержи их между сеном и солнцем»…
ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ
В ту ночь,
вонзая веки в ладони ангелов, не мог я уснуть,
мне мерещилось пламя на лугу и голые пятки.
Убегая от огня, я заблудился в дубовом лесу,
бредил в тумане, звал на помощь.
На голос откликнулся старец Исмаил
и я нашел тропу, устланную опавшими листьями,
а потом услышал серебряный звон колокольчиков
и догадался, что наступило утро,
потому, что сельский пастух сгонял коров в стадо.
Я оделся, умылся и побежал в ковродельню,
счастье было в дыханье моем сквозь улыбку,
и смех на лице встречал осеннее солнце.
Скрипнув дверью, я бодро вошел в мастерскую,
но застал старика плачущим над свечою.
«Посмотри, тля выела лучшее мое творение!»
– сказал Исмаил и посветил мне.
Я увидел ковер и отвернулся,
он безжалостно испорчен был молью,
рубцы на ворсе зияли,
словно раны на груди лошадиной,
когда овод на шерсть присосался.
Все другие ковры были целы,
и я спросил об этом старца.
– Этот ковер самый лучший, самый пестрый и ценный,
я спрятал от глаз подальше,
и сверху накрыл мешковиной,
чтоб не смущал меня цветом,
соразмерностью всех узоров,
сочетанием ярких красок
и подобием мироздания.
Ковроделу грех восторгаться
собственным своим творением,
ибо в зеленой листве восторга
таится, как змей, гордыня.
Чтоб не искушало меня тщеславие,
и совершенство не волновало душу,
я забросил ковер в темный угол,
пусть живет в мною созданном мире,
где на зеленном ворсе пасутся
черные и белые бараны,
журавли в синем небе застыли,
на тюльпаны, слезы роняя,
и под древом жизни
расколотые гранаты
в тени павлиньих перьев.
Показать хотел тебе чудо,
что давным-давно забыто,
и покрыто пылью смирения.
С ковра, чтобы начать задачу,
я извлек его на свет Божий,
но на руках оказался огрызок,
– ответил старик в печали.
Я обнял дедушку за пояс
и прильнул левым ухом к пупку его,