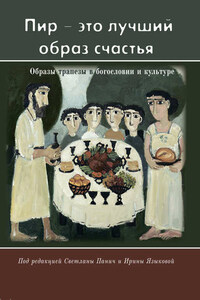Ни диадемы, ни венка,
струится нежностями блуза…
Наверно, так приходят музы
через пространства и века…
Из невесомых светотеней,
без предпочтений цветовых,
без арфы, крыльев, обнажений,
или туманов дождевых…
Их взгляд без хлада и упрёка
спокойной верою в тебя
заполонит потери дня,
а перстень жертвенного рока
не обратит твоих дорог,
как, может быть, желал бы бог
ещё у юности далёкой,
когда так просто было жить,
учиться навыкам ремёсел
и плыть в чужих брегах без вёсел,
и всем соблазнам уступить
хотя бы раз.
– Простите, дева,
печали кисти и пера!
Не переполнен мир добра,
но также жаждет рыб и хлеба,
всё меньше таинству души
и созерцанью предаваясь…
Я мало верю людям, каюсь!
Кому писать теперь, скажи!
И прозвучало на пороге
моих пределов городских:
– Творцы – всегда немного боги,
пока любовь в искусствах их.
Любовь – призвание твоё,
а… что ты… хочешь… за неё?
Мы тщетны в поисках спасенья
от разорения сердец
чужим, навязанным, волненьем
иль равнодушьем, наконец,
но, в акварельной галерее,
вдруг видишь средство, не скорбя,
оставить мир чуть-чуть добрее,
чем он случился до тебя.
Всё больше неба в кронах утра,
уже окрашенных в багрец,
чтобы у времени колец
встречать поры золотокудрой
и чародейство, и венец.
Всё совершенно у природы
и, только, люди не равны
в конечном выборе свободы
своей земной величины.
У муз – Отечествам начало,
но, прежде рифмы и музык,
ложилась живопись на скалы
изображением владык,
которым небо благосклонно…
Потом нахлынула волна,
когда случайная луна
приют заполонила сонный
и чувства обрели слова.
Так и сегодня акварели
движенье воздуха вершат,
в котором дальние свирели
и тайны юной аромат,
и вздохи матери усталой,
и сигареты колдовство,
и сотворенья божество,
и шорох птицы запоздалой…
Нам кисти – неба корабли
и бездны в радуги клавире,
ведь красок много больше в мире,
чем слов у жителей земли.
Из павших крон и тьмы корений,
в обыкновеннейшем лесу,
всё вечно в круге возвращений,
пока мы чувствуем красу,
и, вдруг, сойдя своей дороги,
глаза и душу напоим,
как будто маленькие боги
перед явлением своим.
Вот приглашение подняться
ступеням тёплого двора
в веранды крохотное царство,
где света ровная игра,
быть может, открывает храмы
из акварелей, строчек, нот
иль просто труженик живёт,
свои одолевая драмы…
Он мне, пожалуй, всех милей,
цветам пространства отдавая,
причуды милует людей
и не торопит кущи рая.
Есть дети, дерево и дом,
где лучший мыслимых орнамент –
отцовский каменный фундамент
и место другу за столом.
Мы все – в пути со дня Завета…
Пусть, в лето, лёгок шаг любой,
дорога вверх, как тяга к свету,
не может быть не роковой.
Все передышки – роскошь лени,
пока, незримые, стоят
элиты сотни поколений
в ступенях тяжких анфилад.
И, год не каждый, полон ими,
коль смуты затевал народ,
но… кисть твоё отыщет имя
среди дерзающих высот.
Как мне знакома теплота
ствола и плетень у подножья
и необъятного шатра
междунебесие листвы,
где в горизонты налита
неистребимость бездорожья
и бесноватые ветра,
и осуждение молвы…
Кто тетивой настроил лиру
пожнёт рождённый им закон:
– Ты можешь быть
не нужным миру,
пока тебе не нужен он,
и, потому, хоть иногда
склоняй колени у истока,
чтобы у пламени востока
твоя не таяла звезда.
Так солнце выбелило синь
и пожирать готово осень,
что кроны лишь пощады просят,
взывая жалости Афин,
а, в тени, жизнь ещё слепа
и нежит прелести прохлады,
когда бежать пределов надо,
где раболепствует толпа
и вьётся кольцами аркан!
Но… кисти… брошены «в стакан»
Мои поля кончались лесом
с блаженным шелестом ветров,
где потайно̀й мечтался кров
каникулярному повесе…
Мальчишка мастерил шалашик
и, вкруг, до снега белизны,
порхали бабочки ромашек
на гребнях ветренной волны…
У невесомой акварели
благословение минут
в поры счастливого безделья,
из невозможнейших маршрут,
как будто всем разрешено
вернуться в детства полотно!
Мечтаем всех путей Европы,
но, здесь, незримый ангел мой,
соединяет наши тропы
для возвращения домой,
под янтари или дубравы,
и на малины благодать,
или некошеные травы,
что норовят со мною спать.
Там звезды опускали шторы,
там, утром, жаворонка звон
на сумасшедшие просторы
уже потерянных времён,
где лето мирно прилегло
на акварельное тепло.
Где солнца снежные банкеты
среди расплавленных аллей,
он положил на гребни веток
букеты алые кистей
и, как заботливый мужчина,
чьи годы мудрые седы,
на одиночество рябины
добавил щедрости воды.
Кому такое не знакомо!?
Но суеты замкнулся круг,
и я у собственного дома
её сестру заметил вдруг,
что годы пестовали люди,
которых мимо я спешил,
и пусто тлел в своём уюте,
и ничего не посадил,
и ни одну не тронул душу,
не удивил, не отогрел,
приобретений смыслы рушил
и тихо зеркалу старел…
Простите, мастер, мне слова!
Палитрам стоит ли учиться,
пока могу остановиться,
где вашей жизни острова.
Тянулись ветви с круч родных
корней покинуть противленье
и в неге заводей лесных
у чистоты и вдохновенья
искать поэзии предел…
Но, берег быстро оскудел
и, осыпаясь всем ручьям,
оврагов бездны ширил нам.
А кроны, некогда, дерев,
вплетались в косы водных дев
уже без солнечных лучей,
ветров за ласкою дождей,
и назидательной мечты
вернуться прежней высоты.
В тени – умеренность похвальна,
уже затем, что тьма и свет
нам достаются изначально
за поворотами планет,
и жаждем утра мы, как ночи,
без обозначенной межи…
Садов и леса тихих вотчин
всегда подножия свежи,
но, храмом дальнего Луксора,
лишь раз лучу даётся путь
через века случайным взором
по чьей-то нежности скользнуть…
Где толпы «Смилуйся!» кричали
и, «Хлебы слабым преломи!»
три дуба свод небес держали,
как Моисеевы скрижали
до обретения людьми…
Тот вопль убогий нескончаем
на всепланетном шапито.
Дубы стоят, а мы – мельчаем,
и, право слово, есть за что.
Есть Канты в мире размышлений
и есть Художники в веках
для многотрудных озарений
на одиноких берегах,
и только мы, как песнь Завета,
их повторять обречены,
что мир вокруг – лишь пятна света
на грани слов и тишины…
Здесь, призрак – всё,
и всё – свеченье,
здесь нимфой кружит ворожба
молитвы беглого раба
от городского заточенья.
Пусть росы канули в пылѝ,
звучат восторженные горны
и крон недвижимость покорна
вращенью космоса земли,
где паутинкой бытия
молю спасения и я –
пловец меж истин берегами,
склоняюсь кронам и корням,
пока кистей искусство нам
ещё позволено богами.
В финале редкого маршрута
недальний звон колоколов
доносят призраки ветров,
как обещание приюта –
на старом дереве скамьи
отринуть маски и забрала
перед сокровищем хорала –
еретика епитимьѝ.
Пускай и там, лишь шаг к Иуде,
и паперть алчущей толпы,
необъяснимо ищут люди