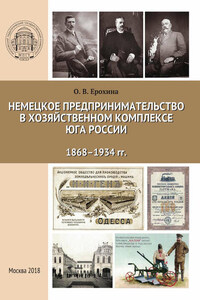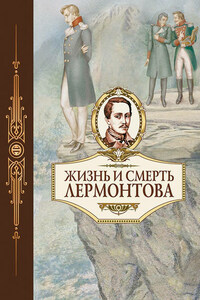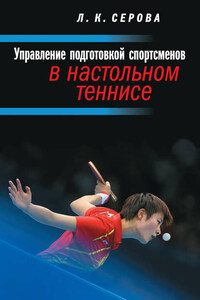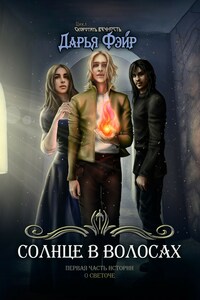Предисловие к Части
IV
.
Четвёртая часть воспоминаний В. А. Игнатьева посвящена Казанской духовной академии в начале XX века.
Казанская духовная академия являлась одной из четырёх духовных академий – высших православных духовно-учебных заведений Российской империи. Она располагалась в г. Казани и существовала в 1797-1818 и 1842-1921 годах.
Казанская духовная академия занималась подготовкой будущих архиереев Русской Православной церкви, а также преподавателей духовно-учебных заведений, её студентами становились лучшие выпускники духовных семинарий. Она была центром научной деятельности в разных направлениях – богословие, философия, церковная история, филология, языковедение и т. д. В ней работали многие видные учёные – богословы, философы, историки, языковеды, филологи, востоковеды и др., сформировались многие научные школы. Важнейшей её особенностью было миссионерское отделение, где преподавались восточные языки, этнография, история ислама и ламаизма, история распространения христианства на Востоке, миссионерская педагогика. Более 100 выпускников Казанской духовной академии были архиереями и играли важную роль в истории Русской Православной церкви.
В 1843-1849 гг. по проекту архитектора А. И. Песке1 для Казанской духовной академии был обустроен особый загородный квартал на Арском поле. Главный трёхэтажный корпус размещался в саду и выходил северным фасадом на Сибирский тракт (ныне ул. Ершова) и отделялся от него металлической оградой по кирпичным столбам. С восточной и западной сторон от главного корпуса на углах Сибирского тракта с улицами Академической (ныне Вишневского) и Госпитальной (ныне Чехова) находились два флигеля, построенные в 1849 г. для квартир наставников. В 1887-1889 гг. главный корпус и флигеля были расширены и здание из прямоугольного стало П-образным.
В 1917 г. Казанская духовная академия была выселена Временным правительством из своего здания, которое заняли эвакуированный кадетский корпус и военный госпиталь.2
В 1917-1918 гг. занятия студентов проводились в других помещениях, в основном, в здании Казанской духовной семинарии.3 Была попытка преобразовать академию в богословский факультет Казанского университета.
В 1918-1921 гг. Казанская духовная академия продолжала свою деятельность подпольно на квартирах преподавателей и в монастырях Казани, где селились студенты. В 1921 г. за нарушение декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» был арестован весь преподавательский состав, приговорённый к 1 году заключения в лагерь условно.
Основные документы по истории Казанской духовной академии хранятся в Национальном архиве Республики Татарстан, ряд документов хранится в Российском государственном историческом архиве.
Историю Казанской духовной академии писали известные историки XIX-начала XX веков: Благовещенский А. А.4, Можаровский А. Ф.5, Знаменский П. В.6, Терновский С. А.7, Харлампович К. В.8
В настоящее время историей Казанской духовной академии и её отдельных научных школ занимаются многие научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты университетов и семинарий.9
Из неопубликованных мемуарных источников преподавателей Казанской духовной академии известны «Очерки из жизни русских епископов» Смирнова А. В.10, которые содержат сведения о викарных епископах – ректорах Казанской духовной академии.
Бывший студент Казанской духовной академии курса 1909-1913 гг. В. А. Игнатьев в рамках своего литературного творчества в мемуарном жанре в конце 1960 г. составил очерк «Учение П. А. Иконникова в Казанской духовной академии», который вошёл в состав его автобиографических очерков «Петя Иконников».11 Одновременно по инициативе И. С. Богословского им были составлены «Очерки по истории Казанской духовной академии».12 Позднее, в 1965 г. по инициативе В. П. Бирюкова для Уральского архива литературы и искусства им были составлены очерки «Казанская духовная академия (описание и преподавательский состав)».13 Подробнее о формировании коллекций мемуаров В. А. Игнатьева см. в ст. «В. А. Игнатьев и его воспоминания» в Части I. «Семейная хроника Игнатьевых».
В. А. Игнатьев оказался, пожалуй, единственным автором, кто в советское время, находясь внутри страны, сделал попытку систематизировать свои знания о непопулярной тогда теме истории духовного образования перед Октябрьской революцией в форме трилогии. В письме И. С. Богословскому он отмечал: «Как Вы думаете насчёт «Трилогии»: «Духовная школа перед Окт[ябрьской] Революцией»: а) Кам[ышловское] дух[овное] училище, б) Пермская дух[овная] сем[инария], в) Казанская дух[овная] ак[адемия]? В эту тему нужно вложить всё, что относится к этому – не распыляя. … Что со всем этим делать? Я как-то по этому поводу разговаривал с Целестином Андр[еевичем] Киселёвым.14 Он мне сказал: «Всё это будет брошено в печку!» (sic!!). Прав он или нет?»15
Противоположный отзыв о своих воспоминаниях В. А. Игнатьев получил от В. П. Бирюкова: «Благодаря твоим очеркам я имею довольно хорошее представление о духовно-академическом ученье, в частности, о том, что оно заставляло студентов много заниматься самостоятельно и одновременно много писать, как, вероятно, нигде больше в старой высшей школе. Невольно приходится сравнивать получаемую теперь «рукописную» квалификацию в вузах и прежде в духовных академиях, – не в пользу первых. Подозреваю, однако, что и над духовными академиками ты стоишь выше в этом, «рукописном» отношении, головой. Даже убеждён в этом».16 В своём обзорном очерке «Бытописатель В. А. Игнатьев и его рукописи» В. П. Бирюков предложил издать его воспоминания о Казанской духовной академии отдельной книгой: «Бурсу мы знаем по очеркам Помяловского, семинарию – по воспоминаниям Воронского17 и других, а духовную академию пока никто ещё не описывал так подробно и интересно, как уралец В. А. Игнатьев, – на целых 244-х рукописных страницах ученических тетрадей».
Несмотря на то, что автор погрузился в воспоминания спустя полвека после того как вышел из духовно-учебных заведений, его очерки, хоть и субъективные, содержат многие достоверные сведения по их истории, недоступные в официальных источниках, а главное, передают ощущения человека, который, пройдя полный курс обучения в старой духовной школе конца синодального периода в истории Русской Православной церкви, не был намерен свою дальнейшую жизнь связывать с церковной деятельностью.
В своих воспоминаниях, относящихся по времени к окончанию Пермской духовной семинарии и перед поступлением в Казанскую духовную академию, он выразил свои мысли на будущее в начале очерка «Учение П. А. Иконникова в Казанской духовной академии». Из них следует, что он, поступая в академию, пошёл по стопам своего старшего брата Алексея, ставшего магистром богословия Казанской духовной академии за научную работу по описанию древних крюковых нот Соловецкого монастыря. Только Василий Алексеевич был светским студентом, а Алексей Алексеевич – студентом из «белого духовенства». В других воспоминаниях он признаётся: «Я оказался на распутье, но не имел возможности выбора будущего по своему желанию за отсутствием средств и поступил учиться в духовную академию, где представлялась возможность учиться на «казённый счёт», но в душе имел намерение продвигаться к своей идее – стать певцом, так сказать, окольным путём».