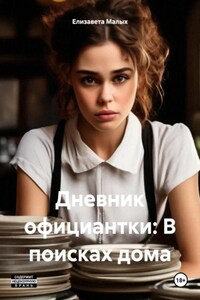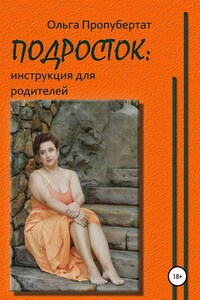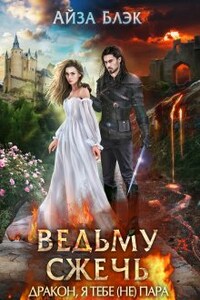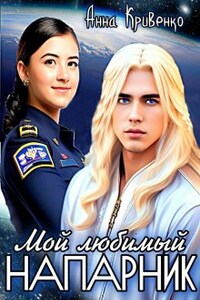Вы когда-нибудь сидели на «Полиграфе»1?
Пять датчиков подключаются к каждому пульсирующему источнику жизни.
Я дышу – они вздымаются. Я потею – они чувствуют. Я врастаю в кресло – они фиксируют. Меня щупает и сверлит глазами начальник службы охраны, а датчики измеряют скачущее давление. Они слушают меня.
– Вас зовут Ольга?
Агрегатом, принимающим по проводам мою пульсацию, управляет молодой парень в очках с противобликовым покрытием. За желтыми стеклами я не могу разглядеть его глаз.
– Да.
– Не волнуйтесь и продолжайте отвечать на вопросы однозначно. Да или нет.
Его ледяной голос хуже холодных блямб на груди, хуже тугого жгута на руке, хуже присосок на висках.
– Вы недавно переехали в Москву?
– Да.
– Сразу нашли работу?
– Да.
– Попадали ли вы в ситуации, о которых стыдно вспомнить?
– Нет.
– Вы замужем?
– Да.
– Есть ли у вас судимость?
– Нет.
– Мы сейчас в Москве? Вам нравится ваша работа? Вы тяжело просыпаетесь после вечеринок? Считаете ли вы себя профессионалом? Вас зовут Ольга? Вы выпиваете? Выпивали ли на рабочем месте? Вы единственный ребенок в семье? Воровали ли вы на работе? Ваша фамилия Коковихина? Воровали ли вы в данном заведении? Вас устраивают условия работы? Вам двадцать пять лет? Вы часто врете? Есть ли у вас кредит? Если бы у вас была возможность безнаказанно украсть большую сумму денег, вы украли?
За пределами каморки, в которой мы застряли втроем в полумраке, долбит музыка. Я не могу не пританцовывать. Инстинктивно качаюсь в такт веселой музыке. Напротив сидит Почемучка. Между нами провода, в которые меня запутали. Я в коконе.
Да. Да. Нет. Да! Ответы превращаются в музыку.
НачОхр, так мы его прозвали, не любит эту каморку с понатыканными в каждом углу мониторами. Здесь живут его подчиненные, спят и едят, глазеют в экраны, следят за нашими передвижениями, подслушивают, может быть, занимаются непотребными делами, кто их знает. Каморка насквозь пропахла потом, чипсами и дешевым одеколоном. Мы трое зажаты между двумя раскладушками. Одеяла скомканы, подушки валяются как попало, никто не ожидал НачОхра сегодня.
– Вам нравится ваша работа?
– Вы уже задавали этот вопрос.
За мои игры в «да-нет» заплатят Почемучке. Он получит за два часа работы, за два часа препарирования шесть тысяч рублей. Он составит мой психологический портрет, передаст его НачОхру. И мы с НачОхром станем близкими друзьями, если его ублажит мое внутреннее устройство психики.
Я ценный сотрудник, если на меня готовы потратить время и деньги. Я интересный человек, если меня готовы узнать. Я важна.
Нет. Нет. Нет!
Кажется, что я работаю с ценными бумагами и большими деньгами? А я всего лишь ответственная за пустые желудки и трезвые головы. Я – официантка.
– Закончим на этом. Подожди в раздевалке. Выпей кофе за мой счет, – НачОхр выдавил дружелюбие, – расшифровка займет еще два часа. Пока, пожалуйста, старайся не попадаться мне на глаза.
Темные и ароматные каморки кого угодно выведут из равновесия. Наконец-то музыка из бесконечных да-да-нет закончилась.
Меня целыми днями преследуют однообразные звуки. С необыкновенного звона начинается каждый день.
Звон за стеной, звон в моей комнате, звон у соседей. Утро в доме. Время будить мужа, готовить завтрак, гладить рубашки. Время не опаздывать на автобус. На работу, на работу. Время думать о жизни, о пробках, об утренней газете, о новостях, о вирусах и о терактах. Время думать о смерти. Время бояться. Вот-вот сейчас последний звон и точно вставать. Думать о будущем. Завтракать кашей, а не печеньем, потому что потолстеешь. Тогда время думать о красоте, время быть недовольной. Время скрывать недовольство. Время платить за квартиру. Сорок три тысячи улетели. Все рубли улетели какому-то армянину. Сусанян, за что? Время плакать. Время молиться и просить. Сорок три. Сорок три и три нуля. Почему не два? Время ворочаться и ненавидеть. Опаздываю. По потолку бегают маленькие ножки. Это девчушка, соседка сверху. У нее нет звона, нет будильника, она ещё рада, она ещё маленькая. Надо подарить ей будильник. Большой, детский, розовый. Потому что все у нее розовое, пятнистое, цветастое. Потому что так все дети ходят, чтобы не отличить друг от друга. Как большой инкубатор. Звон, звон. Все. Опоздала. Нет, утро в доме прекрасно. Просто дом чужой.
За порогом чужого дома ничего нет. Ничего, кроме работы, где на трясущихся ногах я улыбаюсь четырнадцать часов подряд с пятнадцатиминутным перерывом на обед.
После каморки очень захотелось глотнуть свежего воздуха. Перекур на улице разрешен даже некурящим. Но в пятачке на заднем дворе, между мусорных баков, редко насладишься одиночеством.
Таня, немолодая женщина в засаленном синем фартуке и в резиновых тапочках уборщицы, сначала закурила и только потом, выдохнув на меня облачко дыма, заговорила.
– Оль, – сказала она, – девочка моя, у нас проблемы, все уборщицы на тебя жалуются.
Затяжка, еще одно облачко.
– Ты зачем на унитаз ногами встаешь? Мы драим, значит, а ты настолько не уважаешь наш труд, что бумажку постелить не можешь. Бумаги-то завались, не платная. Понимаю, ты тут новенькая, не подружилась ни с кем, вот и брезгуешь. Но мы-то, думаешь, рады ваше говно подтирать? Не делай так, поняла?
Я не знала, что ответить, не из-за такого вдруг откровенного разговора, а из-за того, что впервые за полгода Таня по имени ко мне обратилась.
– Что молчишь-то? Хочешь сказать не ты это? Ты, проверяли несколько раз, только после тебя эти следы остаются. Мне твои извинения не нужны, я могу вытереть за тобой. Жалобы надоело слушать.
– А почему они мне сами об этом не сказали?
– Боялись, наверное, – очередное облачко, – лицо у тебя какое-то неприветливое, злое. Хотя, может быть, просто постеснялись сказать.
По Таниному взгляду было видно, что дело вовсе не в стеснении уборщиц. Я сделала вид, что не заметила этого укола в свой адрес, и как можно дружелюбней ответила:
– Хорошо, я поняла вас.
Она докурила, но не торопилась уходить, стояла и продолжала на меня смотреть, хотела убедиться, действительно ли до меня дошло, что я ей не нравлюсь. Я невозмутимо продолжала источать дружелюбие.
– Ага, – сказала Таня, потерев левую руку об карман фартука, – левая чешется к деньгам, очень хорошо, – и, улыбнувшись, она вплыла обратно в ресторан.
Я осталась стоять на месте, прокручивая план дальнейших действий: успокоиться и вернуться к работе или бросить все к чертям. Воспоминания о ценах на аренду квартир отрезвляют получше ледяной проруби, преодолев темный коридор, я спустилась в жаркую кухню. Здесь пахнет всем одновременно: белизной, жареным мясом, сырой рыбой, картоном и потом.
Самое жуткое рабочее время закончилось, белые воротнички, пообедав, вернулись в офисы, в ресторане пусто, есть еще пять свободных минут. Раздевалка занята, и единственным местом, где можно побыть одной, оставался туалет. Я защелкнула за собой шпингалет и первым делом бросилась к раковине умыть лицо, чтобы оно перестало быть таким недовольным, холодная вода обычно помогает. Не вытираясь, все равно нечем, я пыталась разглядеть в зеркале свою неприветливость и злость. Улыбалась все шире и шире, поворачивая голову в разные стороны, пока не заболели щеки. Где? Где они нашли эту злость? В дверь постучали, из принципа не ответила, закрыто – значит занято. Над унитазом висела табличка, гласившая: «Данное белое творение – трон, относись к нему с уважением». Во всех ресторанах служебный туалет увешан табличками с нелепыми надписями от номинала штрафов, до непристойных шуток. Удивительно, всем катастрофически не хватает уединения и развлечений, но даже в туалете через таблички продолжается токсичный диалог с коллегами. Размотала рулон бумаги до середины, аккуратно разложила его на сидушке, чтобы посмотреть, как это выглядит. Кто-то нетерпеливый и жаждущий одиночества выключил мне свет, пришлось наощупь добираться до выхода из комнаты уединения. Я прислушалась, поджидая, когда отойдут от двери, и вышла.