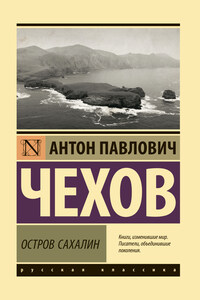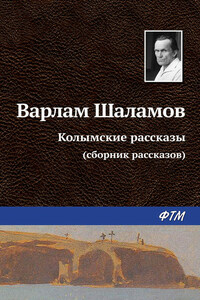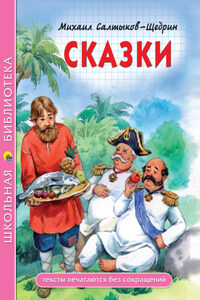Я в Петербурге.
Зачем я в Петербурге? По какому случаю? – этих вопросов, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим – и вдруг тронемся. Губернатор сидит – и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит – и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит – и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться… «Вы в Петербург едете?» – «В Петербург!» – этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что разрешить, на что пролить свет? – этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто с бессознательною уверенностью твердит себе: вот ужо съезжу в Петербург, и тогда… Что тогда?
Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? – возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.
В этом вагоне сидела губерния, сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия» Александр Прокофьич (он же Прокоп Ляпунов) с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! У тебя опять галстух набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимися и не помнящими родства людьми…
Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах оно так и было, но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! Да от этого человека за тридевять земель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!
Легко сказать – бежать! Вы бежите – а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах, он проникает в педагогические, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер – словом, он везде. Это какой-то неугомонный дух, от вездесущия которого не упастись нигде…
По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.
– В Петербург? – спрашивает Прокоп Петра Иваныча.
– В Петербург.
– Зачем, смею спросить?
– Да так… насчет концессии одной… А вы?
– Я, признаться, тоже… от земства… А вы, Тертий Семеныч?
– Да я… как бы вам сказать… ведь и я тоже насчет концессии!
Наконец вопрос обращается и ко мне:
– В Петербург-с?
Тут-то вот именно и представился мне вопрос: зачем я, в самом деле, еду в Петербург и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь, несомненно, за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:
– Да там… тоже маленькая концессия…
Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белен, в Медынь и т. д. Слышались восклицания: «вот бы! вот кабы!», «ну, уж тогда бы» и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург – я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат, – что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологое, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.
Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hotel… Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь, господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.
Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!
Вот буквально те впечатления, которые в течение первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.
Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит Прокоп.
– Ну что, как концессия? Заполучили? – обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.
– Нет еще… да и не знаю…
– Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!
Через полчаса опять стук: стучит Тертий Семеныч.
– Ну что, заполучили?
– Не знаю, как бы сказать…
– Что ж вы мямлите-то, что мямлите! Ведь этак как раз из-под носа утащат!
Проходит четверть часа. «Стук-стук!» Идет мимо Петр Иваныч.
– Что, как концессия?
Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполучить.
– Да что, батюшка, – говорю я, – эта концессия… шут ее знает!
– Что вы зеваете-то, что зеваете! Прокоп вот все передние уж объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь?