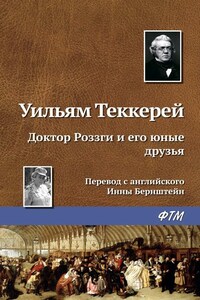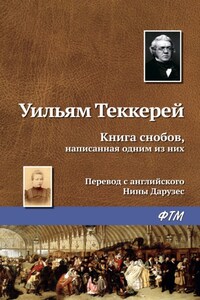Записки мистера М. А. Титмарша
Доктор и его заведение
Я не считаю нужным объяснять мотивы, по которым поступил младшим педагогом и учителем английского и французского языков, цветочных аппликаций и игры на флейте-пикколо в «Академию» доктора Роззги. Добрые люди могут мне поверить: не просто так сменил я свою квартиру близ Лондона и приятное интеллигентное общество на кафедру помощника учителя в этой старой школе. Уверяю вас, скудный учительский хлеб, ежеутренние вставания в пять часов, прогулки с младшими мальчиками (которые строили мне каверзы, так и не проникнувшись ко мне должным почтением как к своему грозному и всевластному наставнику), грубости мисс Роззги, – угрюмая наглость Джека Роззги и покровительственное обращение самого старика доктора-все это весьма мало приятно. Их высокомерие, их злосчастные обеды, право же, нередко становились мне поперек горла. Ну да что там – счеты мои с их школой покончены. Надеюсь, теперь они нашли себе более умелого младшего учителя. Джек Роззги (преподобный Дж. Роззги, питомец колледжа Святого Нита в Оксфорде) вошел партнером в дело своего отца, доктора Роззги, и сам ведет некоторые предметы в школе. Не могу сказать достоверно, каковы его познания в греческом языке, но в латыни я, во всяком случае, разбираюсь лучше него. Второго такого надутого дурака (и чем чванится! – что у них живет его кузина мисс Рэйби), второго такого безмозглого самодовольного индюка я в жизни моей не видывал. Всегда кажется, что белый шейный платок его вот-вот удавит. И из-за этого крахмального укрытия он пытался смотреть на нас с Принсом, вторым учителем, как на каких-то лакеев. В школе от него проку почти что не было, – целыми днями он строчил от имени дирекции благочестивые письма родителям да сочинял нудные проповеди, которые произносил перед детьми. Человек, на котором по-настоящему держится школа, это – Принс, тоже выпускник Оксфорда, скромный, гордый и ученый; до распирания набитый греческой грамматикой и прочей бесполезной премудростью; удивительно добрый с маленькими учениками и беспощадный к дуракам и бахвалам; почитаемый всеми за честность, ученость, храбрость (был случай, когда в общей драке на пристани он так ударил одного верзилу, что и школьники и лодочники только рты разинули) и за ту скрытую силу, которую чувствует в нем каждый. Джек Роззги боялся смотреть ему в глаза. Старая мисс 3. не смела с ним важничать. Мисс Роза делала ему самый глубокий реверанс. А мисс Рэйби прямо говорила, что боится его. Добрый старый Принс! Как часто вечерами, отправив спать своих питомцев, мы сиживали с ним, бывало, в докторском каретном сарае и, отложив до завтра учительские заботы и трости, мирно курили среди развешенной по стенам сбруи.
После того как Джек Роззги получил в Оксфорде желанную степень, – что далось ему отнюдь не без труда, – здешнее учебное заведение, которое прежде называлось «Школой Роззги», «Академией доктора Роззги» и прочее в таком же духе, вдруг превратилось в «Родуэл-Риджисский колледж имени архиепископа Уигсби». Старую вывеску с золотыми буквами по синему фону сняли, она пошла на починку свинарника. Джек Роззги распорядился декорировать большой актовый зал в готическом вкусе, со статуями, возвел собственную колокольню и посреди школьного двора поставил бюст архиепископа Уигсби. Шестерых учеников выпускного класса нарядили в мантии и четырехугольные шапочки, что, безусловно, производило впечатление, когда сии юнцы шествовали по городу, но вызывало вражду и насмешки пристанских парней. Так велико было пристрастие Роззги-младшего к академическим порядкам и облачениям, что он и меня готов был вырядить в профессорскую мантию с красными шнурами и подпушками, да я решительно отказался, – я считаю, что учителю чистописания никак не к лицу все эти причиндалы.
Кстати, я совсем забыл упомянуть Роззги-старшего, самого доктора Роззги. Что могу я сказать о нем? Ну, во-первых, у него очень громко шуршащая мантия с белыми отворотами у шеи, важный вид и оглушительный голос; а как он величав, когда беседует с родителями своих учеников, – он принимает их в кабинете, сплошь уставленном книгами в роскошных переплетах, и это производит сильное действие, в особенности на дам, убеждая их в том, что, мол, виг доктор так уж доктор! Но только но думайте, пожалуйста, книг он не читает и даже не открывает никогда, кроме тех, в которые закладывает свои белые воротнички, да кроме дагдейловского «Монастикона», который с виду кажется толстым фолиантом, а в действительности представляет собою погребец, где у него хранится миндальное печенье, портвейн и графинчик бренди. Классиков доктор Роззги разбирает только с помощью печатного ключа-перевода, который мальчишки именуют попросту «шпаргалкой», и когда он ведет урок, они устраивают ему всевозможные пакости. Шутники постарше стучатся к нему в кабинет и просят помочь с разбором трудного места из Геродота или Фукидида; он говорит, чтобы зашли немного погодя, он пока посмотрит текст, – а сам бросается искать спасения у мистера Принса или в своих «шпаргалках».
Розги находятся всецело в ведении Роззги-старшего, поскольку сына своего он считает слишком увлекающейся натурой. Еще у него есть густые грозные брови, и он умеет кричать жутким голосом. Но грозная его повадка никого не пугает. Это только львиная шкура, или, говоря иначе, холостая пальба.
Маленький Мордант однажды нарисовал его портрет с длинными ушами, как у хорошо известного домашнего животного, за каковую карикатуру заслуженно пострадали его собственные уши. Доктор Роззги застиг его на месте преступления, впал в страшную ярость и поначалу грозился даже поркой. Но в тот день от Мордантова папаши как нельзя более кстати прибыла в подарок доктору корзина с дичью, отчего доктор Роззги смягчился и просто-напросто сжег портрет с ушами. Однако у меня в столе лежит за семью печатями еще один набросок работы того же юного проказника, с него-то и нарисован фронтиспис этой книги.
Первый боец
Старость моя уже не за горами, и в жизни и в странствиях моих я повидал немало великих людей. Видел Луи-Филиппа выходящим из Тюильрийского дворца; и его величество короля Пруссии, когда они с рейхсминистром в Кельне благословляли друг друга на рыцарский подвиг у меня под самым носом; и адмирала сэра Чарльза Нэпира (один раз, в омнибусе); и герцога Веллингтона; и бессмертного Гете в Веймаре; и покойного всеблагого папу Григория XVI; и еще человек двадцать великих мира сего, – из тех, взирая на коих нельзя не испытать почтительного и восторженного потрясения. Мне приятен этот трепет испуга – дань скромных духом Великому Человеку.