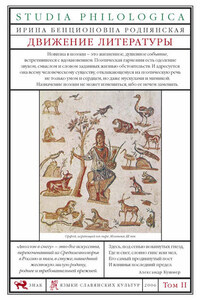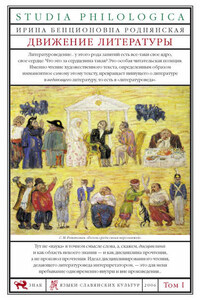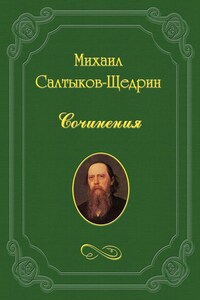Поэзия паузы: Предчувствия и память
Только ли кажется это современнику и ровеснику, вплотную приблизившему взгляд к своему предмету и перенапрягшему слух, – или действительно окрепла и обнаружила себя новая, «иная» струя в поэзии? Что я вкладываю в столь широкие слова, объясню потом, но и прежде всех объяснений три выбранных здесь имени – Татьяны Глушковой, Игоря Шкляревского, Олега Чухонцева – подскажут: речь идет не о тех, кто объединен литературными знаменем или мировоззренческим пристрастием. Конечно же, не школу, а культурное веяние, незаметно перемещающее общий поток нашей лирики в сторону неведомого завтра, хотелось бы мне обозначить, и задача моя трудна, ибо неочевидна.
Но так же трудна поэзия интересующего нас толка – неявностью конечного смысла и особой содержательной уплотненностью.
О чем молчу, темнея впалым ртом,
в какой пролетке, бабкиной коляске
лечу, когда весна хрустит песком,
когда в автобус, что набит битком
людьми, что врукопашную, ползком
(когда Москва не позади – кругом:
на беженских подводах, босиком,
давясь своим заплаканным платком) —
а выстояли при Волоколамске, —
сажусь рядком, чтоб говорить ладком,
волос моих киваю узелком,
совсем не замечая этой тряски?..
Двенадцатистишное – на две рифмы, в одну фразу – стихотворение Т. Глушковой (оно представляется мне узловым) сразу, одним чтением, конечно, не возьмешь. Сначала надо уловить общую интонацию – вопросительную, затягивающую силой длинного вздоха, – распутать маршрут синтаксиса, потом уж разглядеть зарисовку, а сквозь нее – моментальные вспышки прошлого и, наконец, понять состояние поэта и подход его к жизни.
Сгущенность здесь такова, что каждая черточка может быть распространена на жизненный мир двух сборников Глушковой,[1] бегло повторяя его контуры и грани. Темнеющий рот, узелок волос – этот непарадный (рядом со смуглым загаром, шалью, пестрыми ситцами) образ, как бы поубавивший телесной пластики, скудный, запекшийся, пришел в стихи Глушковой не столько из предчувствуемого позднего одиночества, сколько из детства: сквозь взрослые черты проступает четко увиденный со стороны облик ребенка с «невнятным, заплаканным ртом», «с черничными, невнятными устами». И из детства же, из участи киевских беженцев, так и не догнавших откатывающийся фронт, – сочувственное знание тех подмосковных подвод 1941 года, тех слез и смятения: «Грохочет беженцев тележка. / Куда ей – от войны свернуть! / Какие крохотные дети. / Какие горькие глаза. / Веревкой связан скарб столетий. / Скрипят четыре колеса». Это завязь ее стихов, – как не раз совершается ею все тот же мысленный перелет меж Подмосковьем и Приднепровьем: от взгляда на сухой Ламский волок – к памяти о послевоенной засухе на Украине. И среди набившегося в автобусы люда – тех ли, кто отстоял Москву, или детей их, все равно причастных к общей страде, – она своя: «сидит рядком» да «говорит ладком». Но погодите, ведь и молчит же одновременно, ведь не вся здесь. Не трясется со всеми, а летит «в пролетке, в бабкиной коляске». Так, незаметно, сделан еще шаг в глубь времени, не в ближний, а в дальний исторический день, в ту память, которая у автобусных попутчиков, быть может, лишь неосознанно дремлет, а у поэта бодрствует за всех сородичей и соотечественников. Ведь «Москва не позади – кругом» – это реплика столько же на лермонтовское, бородинское: «Ребята, не Москва ль за нами», сколько и на слова, прозвучавшие во вторую Отечественную: «Отступать некуда – позади Москва».
Эта отъединенность от сегодняшнего окружения («молчу…», «лечу…»), с тем чтобы приобщиться к давно отшедшим и помянуть их, может быть сочтена, как предполагает сам поэт, «недемократичной», что ли. Но —
… если скажут: мне всего милее
древесный шелест – не людская молвь,
набухшие от сырости аллеи —
не равенство, не братство, не любовь, —
она в ответ расскажет о том, как в ее уединение «всю ночь с листвы глядят людские души, хлебнувшие безлюдной высоты» еще со времен Ледового побоища.
Для Глушковой не существует истории, которую узнают лишь из книг. В «Выходе к морю» превосходные белые стихи свидетельствуют о таком ощущении исторического стиля, какое не назовешь нажитым, приобретенным через общедоступные каналы культуры. И вправду, как бы земля рассказала, как бы тени поведали, как бы двухвековая липа взяла в компаньонки, чтобы вдвоем смотреть на царский поезд Елизаветы Петровны: «… я прихожу сюда / Неслышная, хотя бы раз в столетье… Тут некогда царица проезжала / С блестящими, веселыми глазами, / Лицом в отца… И дюжий студиоз / Ей громыхал латынью. Как доспехи, / Валились в пыль пудовые слова. / Но, слава богу, лаврский перезвон / Взлетал превыше тощего Пегаса!» Украинское «зеленокудрое барокко» Киево-Могилянской академии, последних дней Сечи, старчика Григория Сковороды, гоголевского Хомы Брута и слепых лирников – для нее такой же дом, как и заросшие лопухами дворы израненного послевоенного Киева, где она малым ребенком находила «пышные укрытья». Стоит осмотреться, спустившись к Подолу, как эта отдышавшая жизнь – гомон базара, звон колоколов, бурсацкие забавы, картинное изобилие – воскреснет и обступит странницу, знакомая невесть откуда и с каких пор («отродясь»). И почти столь же близким – не родным, но родственным – предстает раннее, «варяжское», североевропейское средневековье, повязанное с Киевской Русью. Уже не из памяти, а из прапамяти выплывает старинный славяно-германский «выход к морю» – допетровский, дотатарский. Сквозь незнакомые черты торгового прибалтийского городка смутно проступает какой-то намек, знак о былом, и слышится неожиданный отзвук родства.
Живя сразу во многих временах, поэт всегда с кем-то далеким аукается, за кем-то невидимым следит. В подмосковной усадьбе все еще «припрятан» наследственный владелец дворянского гнезда: «Смугловатый блондин, сладкоежка, / как чадишь – хоть припрятан хитро! / Самохвал, богоравная пешка, / в переплавку – твое серебро! / Ты сгодишься мне в полночь слепую… Чтобы я в эту кровь голубую, / снег падучий да тьму земляную, / торопясь, обмакнула перо!..» Обмакнула – и вот уже, трясясь в рейсовом автобусе, летит тем временем «в бабкиной коляске».
Что же все-таки понудило поэта, как «скарбом столетий», нагрузить маленькую тележку стихотворения памятью, прапамятью, вчерашним опытом, переживанием текущего дня? Но тут мы как раз столкнулись с одной из тех черт поэтического сознания, которые рискую назвать новыми: больше не существует отдельных тем или канонически уравновешенного их переплетения. Как развернется стихотворение, у Глушковой совершенно нельзя предугадать по первому стиху, даже строфе (а традиционная композиция обыкновенно ведь предсказуема, как фуга). Поэт начинает: