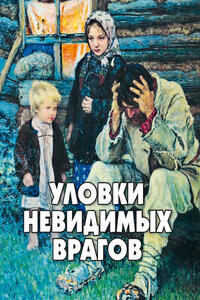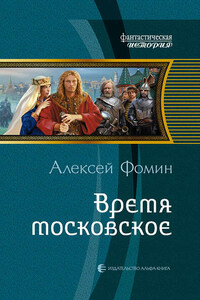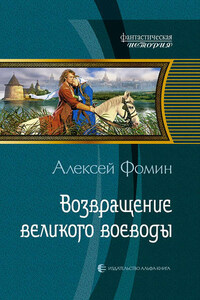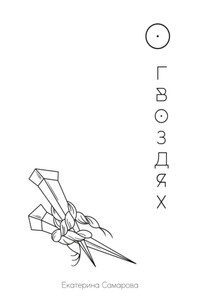Двери с шипением и стуком растворились, и спрессованная общим стремлением, по-утреннему сосредоточенно – злая толпа вынесла Игоря Михайловича из автобуса. Не давая себе расслабиться и хоть какое-то время постоять и насладиться отсутствием тесноты и давки, он вместе со всеми энергично зашагал ко входу в метро. В вестибюле купил спортивную газету, отстояв небольшую очередь, и спустился вниз, на перрон. Уже год, как Игорь Михайлович отказался от машины для поездок на службу, сделав окончательный выбор в пользу общественного транспорта. Поначалу московское метро встретило его весьма недружелюбно, вызвав ощущение безотчетной тоски и растерянности, как у какого-нибудь провинциала, впервые попавшего в подземку Великого Города.
Но уже через пару дней навыки городского жителя, навыки человека, родившегося и выросшего на асфальте, среди бетонных коробок, навыки, всосанные им с молоком матери, вновь вернулись к нему. И как не бывало двадцати лет, проведенных за рулем автомобиля.
Московское метро снова стало для него удобным и привычным, как разношенные домашние тапочки. Ему вновь довелось испытать то упоительно-болезненное чувство абсолютной анонимности, поблескивающее зазывно-обманным мороком свободы от всего и вся, которое только и можно испытать в подземной московской толпе.
Игорь Михайлович вошел в вагон и, проехав один перегон до конечной, перешел на противоположный перрон. Обеспечив себе таким образом сидячее место, он уткнулся в газету. Буквы поплыли перед глазами, сливаясь от тряски в непрерывную нечитаемую ленту. Игорь Михайлович крепко зажмурился и вновь открыл глаза, пытаясь настроить зрение на мелкий, прыгающий из стороны в сторону шрифт, угнездившийся под крупным заголовком: «Триумф!» На этот раз текст ему подчинился, и он с вялым удовлетворением отметил про себя, что очки еще могут и подождать. Дальнозоркость свалилась на Игоря Михайловича внезапно, без всяких предупреждений и была мучительно воспринята им как первый признак приближающейся старости. Во всяком случае, он стоически старался отодвинуть как можно дальше тот день, когда ему все-таки придется водрузить себе на нос этот символ надвигающейся немочи и общего нездоровья. Но, несмотря на победу над коварным текстом, почитать ему сегодня так и не довелось.
Как правило, Игорь Михайлович садился между двух женщин (у них и плечи поуже, и коленки они держат вместе). Во всяком случае, старался. Но сегодня слева от него оказался какой-то юнец с затычками в ушах. Плюхнувшись на сиденье, он широко раздвинул в стороны свои длинные худые ноги, нагло потеснив Игоря Михайловича. Игорь Михайлович попробовал мягко отстранить его ногу, но не тут-то было. Но бесстыжий мальчишка не уступил ни сантиметра. К тому же из его мерзких маленьких наушничков во все стороны неслась (во всяком случае, в сторону Игоря Михайловича) отвратительная… Нет, не музыка. Игорь Михайлович никак не мог назвать это музыкой. «Ну почему бы не слушать что-нибудь приличное? – с раздражением подумал он. – Beatles, например, или Pink Floyd. Да уж хотя бы Свиридова какого-нибудь, наконец. Нет! Надо обязательно травить окружающих этой отвратительной какофонией!» В свое время ему довелось поработать с творческими союзами, так что уж в чем-чем, а в музыке он разбирался.
Игорь Михайлович поерзал на сидении и слегка пихнул нахала локтем в бок. Молодой человек метнул на него возмущенный взгляд, но, встретившись с ним глазами, весь как-то съежился, подобрался и даже уменьшил звук своих барабанов. Игорь Михайлович снова уткнулся в газету, но бесцеремонный мальчишка сумел-таки вывести его из равновесия. Читать ему больше не хотелось.
«В этом они все, – с раздражением резюмировал он. – Гибкость чрезвычайная. Наткнулся на препятствие, не стал упираться. Отошел в сторону – и снова принялся за свое. В чем они и проявляют настойчивость и упорство, так это в поисках развлечений и удовольствий. Накапать кислоты на язык, врубить это дэбильное техно и балдеть… Ни долга, ни чести, ни ответственности… Родина, семья, работа – на все наплевать. И мой – такой же. – Легкая досада на самого себя за то, что не смог воспитать сына иначе, слегка царапнула Игоря Михайловича. Досада была именно легкой, потому что сильных чувств и эмоций он уже давно не испытывал. Даже ненависть, которая иногда все же всплывала наружу из самых темных глубин его собственного «я» была какой-то серой и скучной. Слишком много надежд за последние двадцать лет обернулись разочарованиями, а одержанные им победы в итоге оказались поражениями. – Хотя, что значит «иначе»? Как «иначе»? Чего я еще не сделал? И на рыбалку ездили и на футбол вместе ходили… А вырос… Одно слово – совершенно чужой человек. С мамулей своей еще общается… Когда деньги нужны. – Слово «деньги», как зловредный стрелочник, моментально перевело стрелку в голове, и дребезжащий, подпрыгивающий на стыках поезд его мыслей помчался по совершенно иной колее. – До чего же люди жадны и бестолковы! Суетятся, подличают, рвут друг другу глотки… И все из-за денег. Новый телевизор, новая машина, новый дом, еще один, еще, дворец, самолет, океанская яхта… Зачем? Скучно…» – Потребности и запросы самого Игоря Михайловича были скромны и весьма незатейливы, ограничиваясь пачкой недорогих сигарет в день и небольшим количеством самой немудреной пищи – только чтобы утолить голод. Да и курил-то он скорее по многолетней привычке и, если бы дал себе труд задуматься, а действительно ли ему так уж хочется курить, то, скорее всего, легко и без колебаний отверг бы и сигареты. Вот так же он однажды вдруг понял, что больше уже не испытывает удовольствия ни от выпивки, ни от самых изысканных и вкусных деликатесов. Единственное страстное желание, сохранившееся у Игоря Михайловича к его сорока семи годам – это спокойно дослужить оставшиеся до пенсии три года и уехать, к чертовой матери, из Москвы в самую глухую глушь, чтобы не видеть этих опостылевших рож, чтобы не быть никому ничего должным…
В восемьдесят девятом за сто двадцать тогдашних рублей он по глупости, как ему тогда казалось, приобрел домишко в деревне, верст за четыреста от Москвы. Купил у сослуживца, который только что похоронил мать, жившую в том доме. Тогда как раз входило в моду – иметь дом в деревне. Но жена Игоря Михайловича новоприобретения не оценила, лишний раз назвав его болваном. Он и сам вскоре осознал бессмысленность своей покупки. Все-таки четыреста верст – не наездишься. Да и домишко-то – так себе. Но лет восемь назад, он, приехав туда на пару дней, провел там весь свой отпуск. Крохотная деревенька (чуть более десяти дворов) и в восемьдесят девятом была едва живой, а в девяносто девятом все ее население состояло из трех старух и бывшего зэка Сергуняя, решившего на старости лет осесть на малой родине после пяти ходок на зону. И если старухи еще как-то были социализированы – получали какие-никакие пенсии, поддерживали связь с родственниками, уехавшими на большую землю, то Сергуняй вел совершенно первобытный образ жизни, даже за хлебом не ходил. Рыбачил, собирал грибы и ягоды, выращивал картошку на куцем, кривом огородишке, изредка (патроны экономил) охотился.