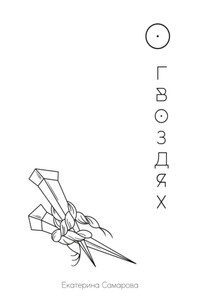В семейном альбоме, который мои отец и мама завели еще до войны, судя по простецкому и тощеватому облику книжки, до сего дня сбереглись, несмотря на огнедышащее соседство этой самой войны, несколько фотографий обоих моих дедов и бабушек, маминых сестер в пору их юности, старшего отцова брата, его жены. Иногда ловлю себя на том, что гляжу на лица тех, кого уже давно нет в живых, с каким-то почти молитвенным чувством. И подступает догадка: тонкое это веяние исходит и передается не от меня, но от них самих. Это они смотрят на меня неотрывно, взыскующе, с поистине молитвенной собранностью, будто в силах огородить если не от всех подряд, то хотя бы от самых губительных в будущем нападений.
В такие минуты созерцания заветных душе образов ищу и всё не нахожу самых верных для них слов. И вдруг, уверясь вполне в праве на такой порыв, говорю себе: нет, не надо больше никаких определений для них искать, потому что они – мои домашние святые.
Не такой ли именно порыв, обращенный к ушедшим от нас родным, присущ тысячам тысяч совершенно неизвестных друг другу людей, не обязательно современников? И кто нас осудит за то? Кто запретит нам раз от раза полниться уверенностью, что святых людей на самом деле на свете пребывает неизмеримо больше, чем записано поименно в святцах различных вероисповеданий? Кто помешает нам однажды осознать: в глубинах своего смиренномудрия эти не сосчитанные и не причисленные домашние наши святые оградили себя какого-то особого свойства согласием. Что если Сотворшему вся и всех эти тихие души, их круг и подлинное число нужны для каких-то совершенно иных заданий и служений, не нуждающихся в снятии с них таинственного покрова?
Не с этим ли честносердечием во взоре и ты глядишь на нас, дед мой, – а для кого-то из моих уже прадед и прапрадед – Фёдор, Феодор Константинович Лощиц, солдатский сын, старший писарь 61-го Владимирского полка, беспорочно отслуживший свой воинский призывной срок на польском западе Русского Царства, в граде Белостоке, при государе императоре Александре III? Это тебе как писарю «старшего разряда», безупречно владевшему при твоем белорусском крестьянском происхождении письменной и устной русской речью, доверено было вести всю служебную переписку родного полка, а значит, знание и соблюдение, наравне с командиром части, ее военных тайн и архивных секретов. То есть, ты, догадываюсь, никак был нечета известному по расхожим сюжетам ротному грамотею-писарчуку, что помогает безграмотным солдатикам составлять письмеца в родные деревни, – но вряд ли отказывался при случае и от таких просьб своих однополчан. И хотя ты перед фотографом уже в гражданском костюме, при светлом цивильном галстуке, но стоишь осанисто, навытяжку, с бодро закрученными усами, как будто, если окликнет тебя с улицы воинский горн, тотчас прямо из павильона ступишь в строй.
Слева же от тебя не сидит – поистине восседает, – стройна яко свеща, пальцы рук волево собрала в кулачки, покоит их на коленях – супруга твоя верная Татьяна, родившая тебе четверых сыновей, которым и имена при крещении наречены – не осознанно ли? – из царственного обихода: Александр (скончался в раннем детстве), Николай, второй Александр, наконец, Михаил – мой отец.
Отец-то мой и вспоминал много-много позже, что, в отличие от мужа своего, родительница в грамоте была не очень успешна. Чтобы хоть как-то управиться с этим изъяном, держала при себе дневничок, занося в него краткие пометы такого, к примеру, свойства: «Наша Роза атилилас…» Но зато, удивительное дело, она при этом истово певала в сельском церковном хоре. А значит, знала на память десятки урочных тропарей, канонов, стихир, – так что я иногда, думая о ее осмысленной певческой памятливости, сокрушаюсь: да это как раз мы, в отличие от моей бабушки Тани, то и дело остаемся при наших средних и высших образованиях законченными невеждами.
А справа от нее на том снимке – Максим Степанюк, родитель ее сидит, механик фарфоровой фабрички из новоград-волынской Городницы. Он – единственным из четырех моих прадедов сохранился до XXI века в фотографическом запечатлении. Будто соответствуя такой выпавшей ему удаче, глядится молодцом: острый соколий взгляд из-под картуза с блестящим козырьком, густая темная бородка, в разлет завитые, как и у зятя Федора, усы; опять же и галстук повязан поверх поднятого воротника белой рубахи. Большими натруженными дланями прижимает к себе внука Колю, тоже глядящего перед собой умно и неотрывно, несмотря на пятилетний, по моей прикидке, возраст. Значит, к фотографу ходили, думаю, около 1910 года, поскольку дядя мой Коля родился еще в 1905-м.
Какая же, однако, матёрая давность! Лишь через четыре года загремят фронты Первой мировой, для них же, кто на снимке, – а теперь снова и для нас! – Отечественной. И лишь через 12 лет после того фотографирования в семье народится последний их по счету сын.
В начале 1917-го, почувствовав, что она снова в положении, Татьяна Максимовна отправилась на обследование (семья жила на ту пору в Одессе) к знакомому врачу. Он напрямик, жестко отсоветовал рожать, посчитав, что организм ее уже не справится с чрезвычайным испытанием. Представляю, как она, чуть отпрянув станом, сжав на дрогнувших коленях пальцы в кулачки, выслушивала приговор себе и плоду своему. Набожная женщина пренебрегла мнением доктора, решив положиться во всем на Господню волю. С врачом этим она снова увиделась лишь после того, как благополучно родила. Столкнувшись с ней в больничном коридоре и заметно смутившись, он развел руками: «Ну, что же, и мы, врачи, нередко ошибаемся».
Бабушка Таня запечатлена еще на одной фотографии, тоже из самых для нашей семьи драгоценных. Хотя автор снимка разместил здесь немало народу, узнать ее мне не составляет труда. И в пожилом возрасте не изменяет ей статность, с которой восседает в самой середине композиции. И с неизменным кулачком-щепотью покоится на ее колене загорелая левая рука. А правой обнимает за плечишко первого своего внука – Колю, Колюнчика, белобрысого и белобрового трехлетнего мальчика, моего двоюродного братца. Татьяна Максимовна – в центре внимания фотомастера не только по годам своим, но и потому, что это к ней, к ее хате на станции Мардаровка, что в ста пятидесяти километрах к северу от Одессы, сегодня отовсюду пришли и приехали родичи и гости.
Справа от нее сидит, важно перекрестив руки на груди, благодушно прищурившись, будто попыхивая в свои вислые усы, второй мой дед, крепко уже лысый Захар Иванович Грабовенко, колхозник из села Фёдоровка, что в двенадцати километрах от станции. Рядом с ним – Дарья Яковлевна, его супруга, тоже моя бабушка, из того же Фёдоровского колхоза. За ними, во втором ряду, стоят мои родители – улыбающийся отец в белой рубашке, мама, сдержанно-сосредоточенная, в скромном пиджачке, – он и она положили по одной руке на плечи деду Захару, словно прося покровительства, как у самого старшего в родстве мужчины.