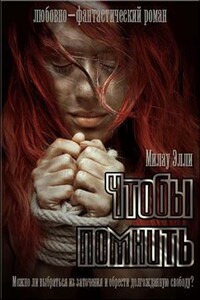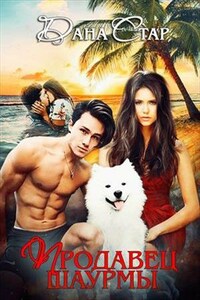19 августа, понедельник
Я стою около дома и, по-детски задрав голову, смотрю вверх – вижу свисающий с крыши металлический брус, окаменевший, почерневший под гнетом столетий хвост дракона. Его логово, где ящер был застигнут врасплох вечностью, – четырнадцатиэтажка. Благодушно расправившая свои складки-отсеки, она чем-то похожа на раскрытую книгу, страницы которой разбежались веером.
Я долго нахожусь в таком положении – ладно бы только странном, нелепом, да еще неудобном: затекает шея. Но я терплю, любуясь тщедушными облачками, беспомощно вибрирующими в синеве, как жучки, опрокинутые кверху брюшком. В разные стороны, порой едва различимыми линиями, тянутся провода – все соседние здания связаны их круговой порукой.
Какая-то маленькая тень промелькнула подле меня, просочилась в подъезд, но это – словно мимолетный ветерок, не смеющий меня отвлекать. Ничего лишнего мне сейчас не надо – я ведь так давно не был дома.
В подъезде – двое: грузные, размазанные, смешавшиеся с полутенью. Так, не чая исхода, мимикрируют, приноравливаясь к тусклому, безнадежному ландшафту. Один – нахлобученная на самый лоб фуражка, серая, истертая, сливающаяся с таким же постным, вымороченным лицом. Другой, ближе ко мне, – барсетка, застрявшая, несчастная, между подмышкой и уродливо всклокоченным пивным пузцом, похожим на старую прохудившуюся подушку. Ее взбивали, лохматили, пытаясь вернуть ей очертания жизни, – но тщетно.
Притворно откашлявшись, я выдавил нечто, напоминавшее приветствие. Под стать поздоровались и со мною – глухим молчанием, почти таким же бессодержательным, как сама пустота.
Наконец коридор озарился светом – примчался маленький лифт, расшаркивавшийся льстиво и лживо, как последний пройдоха-лакей: «Чего изволите?». Мы охотно воспользовались его услугами и протопали внутрь. Через мгновение створки пришли в движение, но раньше, чем они сомкнулись, к нашей унылой компании присоединился мальчик. Так запрыгивают отчаянные на подножку уходящего поезда – тем более в загадочное устройство, способное унести тебя в космос; или низвергнуть в бездну.
Пришлось потесниться.
Его руки и ноги болтались, будто были плохо приделаны к телу; в тот момент мальчику это помогло. Будь он скроен, как следует, разве удалось бы ему успеть, протиснуться! Показалось, что он забрался в лифт по частям. Мужики были увесистые, у меня – раздутый от занудства рюкзак, но о перевесе не могло быть и речи: жадный до малейшей подачки лифт-лакей с наслаждением принял еще одного пассажира – хоть и худенького, авось съедобного.
Поехали. С этажами мы уже определились, но мальчик, нажав «четыре», ставки наши перебил.
Его проворство сменилось робостью, заметной тем больше, чем старательнее сдерживал он трепетавшее, готовое вырваться наружу всклокоченное дыхание. Немного скрюченный, нескладный, несуразный, мальчик весь сжался, нетерпеливо ожидая своей остановки, впрочем, весьма скорой. Я догадывался, какие чувства его обуревают; я сам не люблю эти маленькие лифты за постыдную тесноту, необходимость мириться с нескромной близостью чужих людей, стоящих подчас лицом к лицу и толком не знающих, куда лучше отвести взгляд в этом обременительном замкнутом пространстве. Все мы, казалось бы, привыкли к толкотне в общественном транспорте, где личные границы нарушаются самым бесцеремонным образом; но только в лифтах, – может быть, в силу интимной близости к квартире, где у каждого домашний очаг, семья, постель, – необходимость контактировать с людьми становится особенно тягостной.
Горящие, растопыренные, вернее, какой-то неправильной формы уши запомнились мне в мальчике больше всего, хотя, когда он выходил и юркнул из лифта налево, я сделал всё возможное, чтобы память моя прихватила с собой как можно больше подробностей.
Что у него за жизнь? Какие у него сейчас радости и печали? Насколько дружная и благополучная у него семья? Всё мне было невдомек. Не сомневался я только в его внутреннем достоинстве, которое я обнаружил как чувство, внезапно меня посетившее и непонятно на чем основанное.
На седьмом высадилась фуражка – нам с барсеткой пришлось постараться, чтобы дать ей достойную дорогу; на двенадцатом барсетка оставила меня одного. Как здорово ехать до последнего этажа, как приятно оставаться в гордом одиночестве! Ведь мы, немногие, кто живет на четырнадцатом, – особая каста. Пишу с юмором, хотя в детстве я был в этом вопросе совершенно серьезен, свято веря в некоторую нашу инаковость; но в чем она заключалась, я, ей-богу, не смог бы объяснить. И, как бы храня от грубых посягательств прекрасную тайну, я предпочитал отмалчиваться, когда у меня, ребенка, сюсюкаясь, узнавали, на какой этаж мне ехать; отвечал я, только когда переспрашивали, и произносил максимально сурово и горделиво: «Мне до конца».
* * * * *
Улица ныряет в Каменный Лог – огромный, многокилометровый овраг, разделяющий город на две неравные части. В Логу когда-то текла древняя река – до наших дней осталось лишь пересохшее, как горло умирающего, русло; гальванизируя, река ненадолго обретает нечто, похожее на подлинное существование, при сильных дождях. Величественный Лог становится грозен, ибо страшна его вековечная ярость, вспыхивающая под аккомпанемент молний в грозу, когда всё бурлит и льется через край и когда холмы угрожают сомкнуться, точно пасть голодного зверя.
На восточных склонах стыдливо жмутся друг к другу маленькие, сморщившиеся домишки, поросшие щетинкой, как бабушкино лицо. Пожившие свое и, кажется, сами сознающие свою мучительную старость, они трогательно подставляются солнцу, питаясь им одним, и просят только не трогать себя, хотя новая жизнь, стремительно меняющийся окружающий мир давно уже недобро смотрят на них с грубой, надменной высоты новостроек.