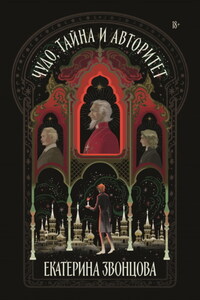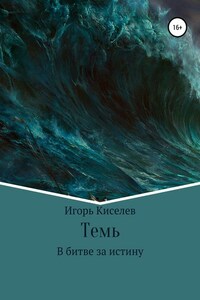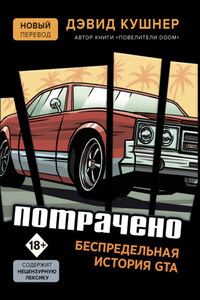Скала смотрит. Смотрит, как он с трудом, припадая иногда на локти, движется. Под его ладонями и коленями жжется бледно-золотистый раскаленный песок.
Он ненавидит свет и синеву, режущие глаза, ненавидит боль в согнутой, искореженной спине, но куда больше ненавидит крики чаек, ласковый плеск волн и разнеженный говор. Визги. Хохот. Прочие звуки из хрупких глоток тех, кто думает, что им ничего не грозит. Топот босых пяток. Шум воды, в которой они возятся, как свиньи в грязи. Все ближе. Кто-то пьет вонючее терпкое вино, в котором колко бренчат ледышки, кто-то пожирает фрукты, обливаясь липким соком.
Они по уши в своем счастье, в своем душном, липком, глупом лете. Резвятся, жирные животные, настолько довольные, что пока даже не заметили его, да что там, его не заметил по пути никто, хотя разве это просто – пропустить человека на четвереньках? Вряд ли. Впрочем, если, пытаясь его задержать, ты умираешь… Ха-ха. Вот тогда-то ты его и пропустишь.
Он продвигается еще немного вперед, со лба падают на песок капли пота. Застывают темными точками, чуть светлеют и превращаются в паучков, которых он очень хотел бы проглотить или хотя бы посадить себе на спину, но некогда. Паучки подождут. У него дело, которое не терпит. Нужно успеть, пока не узнал брат.
Но потом он должен узнать обязательно. Должен. Ему придется.
– Смотрите! – мерзкий детский крик. – Кир ползет!
Он поднимает голову, взглядом вылавливая среди пары десятков отдыхающих на пляже любопытного ребенка, который смеет так визжать, да наверняка еще и таращится и тычет пальцем. Находит. Девочка в коротенькой зеленой тунике, с крупной ракушкой в пухлой левой руке. Она застыла прямо посреди пляжа, подняла вторую руку в его сторону. Широко улыбается. Пары зубов нет. И пялится, правда пялится большими, выпуклыми, как у лягушонка, глазами.
– Кир, кир, кир! – взвизгивает она снова, так, будто видит что-то самое потрясающее в своей короткой жизни, и он ощущает еще несколько взглядов – от тех, кто в воде, тех, кто лежит возле пенящейся кромки, тех, кто дальше.
В этих взглядах уже не любопытство. Многие все понимают и начинают вставать.
– Эй, – чеканит какой-то мужчина. Аккуратно подходит сбоку. – Эй, вы… ты… – Бедолага даже притащил с собой меч. О боги, кто таскает мечи на пляж?.. Зато узнал. Узнал, это читается по округлившимся глазам и рту, из которого вылетает: – БЕГИТЕ!
Скала смотрит. Он чувствует ее выжидательный взгляд и чувствует, как смех и смерть, сдерживаемые годами, вскипают в груди и разливаются по рукам силой. От точек пульса до кончиков пальцев. Именно так. Хорошо. Кто-то правда бежит с криком при виде всего-то его вскинутых рук с сухощавыми, изгрызенными в мясо пальцами. Так еще лучше. Скоро они позовут брата. Они должны позвать брата. Брат должен вспомнить, ему будет что вспомнить, будет, будет, будет…
Брат вспомнит все, чего ему обещали не делать. Никогда не делать.
– Милая! – зовут наглую пигалицу в зеленой тунике, но она уже не ответит.
Улыбаясь мерзкому солнцу и мерзкому небу, он вскидывает руки выше и, когда первые тела – сразу шесть или семь – взмывают над песком, лениво поворачивает кисти. По часовой стрелке. Против. По. Против. Будто выжимая мокрую ткань. Хрусть-хрусть. Пока не прекратятся последние крики.
Никогда еще он не слышал такого славного треска костей. Приятный звук. Намного приятнее торжественной песни горнов-раковин. Тех горнов-раковин, что отняли все. Тех горнов-раковин, с которыми она, победоносно улыбаясь, склонила голову, чтобы на нее надели венец.
На песок падают новые и новые паучки, горячие и красные, куда крупнее первых.
Скала смотрит. Ей нравится это зрелище.
Часть 1. Правила волшебников
– Смотри, какой красивый сад алеет там, вдали.
– Мне дела до чужих садов нет, я тоскую по своему.
Как был он свеж, душист и зелен.
– Так отчего не плачешь ты? Как гордо ты глядишь…
– Не плачу оттого, что и по мне не плачут.
Не страшно мне, и там, где слышат Вой иные, я слышу Песню.
Песню мстительного гнева.
– Кто пел ее в падении тебе?
– Тьма безголосая, и кажется, что… ты?
Я будто знаю. Будто вспоминаю. Тебя.
А не случалось ли тебе гулять в моем саду?
– И до того, как он твоим стал.
Дай мне руку.
Узнай меня.
– Не верю…
Не убивать его. Только не убивать.
Я не выпускаю мысль из головы, даже когда в уши врезается лязгающий скрежет торакса[1]. Когти сминают его – черно-багровые, жесткие, каждый с мой палец длиной. Пять глубоких царапин медленно, но верно раскраивают узорчатую сталь; от моих ребер когти отделяет, скорее всего, тончайший, не толще волосинки, слой уцелевшего металла, да еще слой одежды. Даже сквозь них я, кажется, чувствую иномирный холод – озноб продирает до онемения, щупальцами обвивает тело. А может, не кажется: почему еще я, распростертая на спине и выронившая меч, никак не вывернусь? По позвоночнику словно ползают ледяные жуки.
Монстр Преисподней – освежеванный до мышц и костей, широкоплечий и похожий на обугленного, начавшего уже гнить атланта – склоняется ниже, скаля серые зубы на серых же остатках лица. Глаза в рваных лоскутах век полны красного света – и секунды три я трачу на схватку с другой мыслью. Как больно в них смотреть.
Не потому, что они жгут все тем же холодом. И не потому, что в них желание выгрызть мне лицо, а затем уже в спокойной обстановке дожрать остальное, включая, возможно, мою одежду, мои сапоги и моего кота, если этот мелкий паразит сглупит и вернется.
А потому что я помню эти глаза другими.
Секунды три. Больше нет. Монстр, зарычав до дрожи в каменных сводах, молниеносно подается вплотную – действительно собирается впиться зубами в мои щеки и нос. Воздух из его пасти ничем не пахнет, но таящиеся в дыхании осколки льда режут скулы, попадают в глаза.
Попалась.
Я, завопив, все же изворачиваюсь – и откатываюсь вбок, скинув его холодную тушу. Торакс лопается прямо на мне, сразу в нескольких местах: и там, где когти в него впились, и там, где металл слишком терся о камень, по которому меня успели повалять. Низкие температуры многое делают хрупче, меня же предупреждали… Зато я ухитряюсь вскочить и снова схватить оружие.
Следующий удар когтей приходится на запевший и заискривший серебром клинок – Финни, моя выкованная богом Фестусом верная подружка, готова крушить, ей-то холода не страшны. Но увидев в который раз вторую руку Монстра – серую, тонкую, болезненно нелепую руку с одиноким ободком бирюзового кольца на мизинце, – я снова отступаю, теряю запал и, пропустив удар в лицо, отлетаю к стене. Финни возмущенно звенит, но другой звук хуже.
Слабая