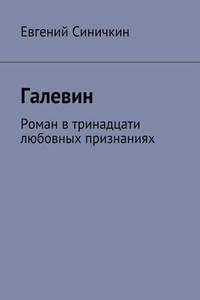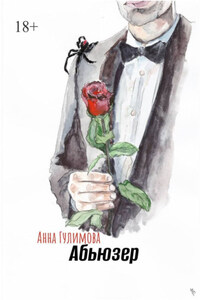Идея написать «Галевина» возникла у меня пять или шесть лет назад, когда в университете работал над курсовой по творчеству Шарля де Костера. В его «Фламандских легендах» мне попалась новелла «Сир Галевин» – рассказ о жизни средневекового серийного убийцы, погубившего полтора десятка молоденьких девушек. Несмотря на совершённые им злодеяния, Галевин не показался мне монстром. Я увидел несчастного, забитого, измученного человека, никогда не знавшего ни любви, ни обыкновенного человеческого участия. Общество, в том числе общество самых близких ему людей, отвергло его, и у меня возник вопрос: может ли общество, человека отвергшее, требовать от отвергнутого соблюдения установленных этим обществом норм? Должен ли человек соблюдать общественный договор, давно нарушенный второй стороной?
Годами меня волновало, как написать этот роман про серийного убийцу и не скатиться к динамическому сюжету банального триллера. Ответ мне подсказали два произведения – «Мантисса» Джона Фаулза и «Остров накануне» Умберто Эко. Я понял, что история жизни маньяка может быть не целью, а средством, фоном – таким же фоном, каким в «Волшебной горе» Томаса Манна является медицина.
«Галевин» – это роман не об убийце, не о маленьком человеке, не о социальной несправедливости, не о человеческой жестокости; это не порнография, не автобиография и не пасквиль, как может показаться с первого взгляда. «Галевин» – это метароман, роман-ребус, посвящённый искусству, могучей стихии, великой силе бытия, которая меняет человека, и иногда настолько, что сводит с ума.
Роман построен на пастише и интертексте. Роман состоит из двенадцати глав, каждая из которых написана своим языком, соответствующим языку какого-либо автора или конкретного произведения прошлого, и наполнена вшитыми в текст цитатами из этих произведений. Кроме того, в романе не один десяток отсылок к иным творениям литературы, музыки, кинематографа и живописи; отсылок разной степени сложности – от элементарных цитат из стихотворений, входящих в школьную программу, до комплексных аллюзий на малоизвестные работы, порезанных на мелкие кусочки и разбросанных по разным главам и требующих исключительной внимательности от собирающего их воедино.
to KG
По чьему бы образу и подобию
мы ни были созданы,
нас уже пять миллиардов,
и другого будущего,
кроме очерченного искусством,
у человека нет.
Иосиф Бродский.
Нобелевская лекция
Vita brevis, ars longa.
Гиппократ
Is this the real life? Is this just fantasy?
Queen. Bohemian Rhapsody
…И остался я без работы. Может, думаю, на портного выучиться. Я заметил – у портных всегда хорошее настроение. Смущала пара нюансов. Не умею шить и мало пью. Ужасные пороки. Первый недостаток закрыл мне дверь в охранку. Второй – не позволил задержаться в журналистике.
Сегодня я написал заявление. (Это так говорится.) Если честно – просто ушёл. Ещё вернее – убежал, сгорая от радости. Ни с кем не братался. В прощальных словах редактора, брошенных наедине, угадывались облегчение и кровоточащий геморрой. Облегчение, судя по глазам, было ему в новинку. С воспалением же в пятой точке Егоров давно смирился. Как сам рассказывал, в марте 2007 года.
В редакции «Спортивного дня» я оказался недавно. Без оформления получил четыре зарплаты и дюжину нагоняев от руководства. Меня корили за лень, недостаток профессионализма, тягу к скандалам. А также – за отсутствие амбиций. В нашем футбольном отделе из девятнадцати человек шестнадцать звали себя «Золотое перо». Пером я быть не хотел. Предпочитал считаться шилом в заднице. Ещё двое журналистского поприща стыдились. Они желали преподавать в школе. (К сожалению, в школе не желали им платить.) Когда-то они были полны энтузиазма. Но сейчас газета им опротивела.
Они долго сопротивлялись. Держались мужественно, как евреи в пустыне. Меня выбило из колеи первое же задание. (Поскольку я от рождения страдаю географическим кретинизмом, обратной дороги найти не удалось.)
В молодёжном составе команды «Юпитер» умер шестнадцатилетний паренёк. Врачи диагностировали агрессивную форму менингита. Обычно тусклое, при этой вести лицо редактора засияло яркостью сверхновой.
– Даю тебе разворот! – летучка началась бурно. – Твоя команда – дерзай!
– Разворот-то зачем? Там новости хватит. От силы – короткое интервью.
Напор меня ошеломил. Я мямлил, выдавливая из себя нечленораздельные звуки. В них было что-то от шокированного оханья измученного гиббона. Ощущение безнадёжности. Ужас перед столпившимися рядом с клеткой зеваками. Несварение желудка.
– Как это – зачем? – редактор недоумевал. – Неужели не осознаёшь, сколько тем поднять можно? Сколько нарывов общества можно вскрыть? Сколько болезней – диагностировать? Сколько проблем – обозначить? Скольким людям глаза – раскрыть? Сколько тайн гражданам – поведать?
Редактор любил эвфемизмы. Между их количеством в его речи и возможными доходами газеты обычно существовала прямая зависимость.
Он продолжал.
– Сам подумай. Молодой парень. В профессиональном спорте. Там наркотики и проститутки. А нам дают официальную версию – менингит. Да что это вообще такое? Копать нужно! Копать! В самую глубь!
На протяжении всего разговора меня терзало сомнение. Не ошибся ли Егоров с профессией? С таким рвением он имел шанс добиться поразительных высот в медицине. Например – в проктологии.
Между тем Егоров не успокаивался. Он наворачивал круги по редакции. В пароксизме страсти он кричал о благородном уделе истинной журналистики. Об ответственности перед народом. О звёздных кораблях, бороздящих просторы Вселенной. Наконец – о внушительном увеличении тиража и суммы премиальных.
– Ну что, согласен? Берёшь? – улыбался редактор.
Чистюлей я никогда не был. Но и в помоях копаться – не моё. Мой отказ редакция встречала тишиной. Такой краткий миг идеального звукового вакуума – редкость. Стать его причиной – честь. Чувствуешь себя Юсси Бьёрлингом на концерте в оккупированной Дании.
– Да ты охерел! – не сдержался редактор. Корабли-слюни стремительной флотилией избороздили просторы моей эпителиальной вселенной.
Думал, меня уволят с позором. Прогнав через строй. Используя клавиатуры вместо шпицрутенов. Но обошлось без публичной казни. Редактор поглядел на меня с сожалением и опаской. Как на человека, оказавшегося в нехорошей компании и пытающегося выгородить дружков. Коллеги пошептались и разошлись.
«Спортивный день» ненавидели. Его считали чрезмерно «жёлтым». Чересчур скандальным. Падким на сплетни и любящим громкие заголовки. Когда я шёл в «День», мне это представлялось хорошей рекомендацией. Ненависть означает, что газета ещё способна возбуждать бурные эмоции. А «желтизна» – понятие растяжимое. У неё куча оттенков. Лучше так, чем скупой, однообразный политес.