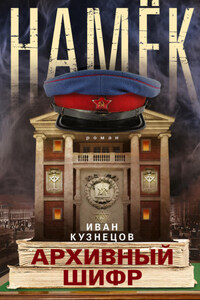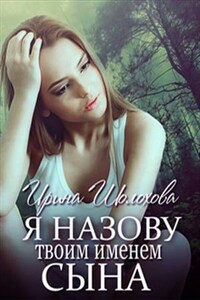После спасительных дождей, ливших почти всю дорогу – от самого Ленинграда – и названных кем-то в вагоне «антифашистскими» за то, что уберегли нас от воздушных налётов, Москва встретила прибывший состав неожиданно солнечным утром.
Прямо у вагона – едва сошли – мать уверенно окликнул сквозь толпу по имени-отчеству немолодой мужчина среднего роста в дорогом костюме…
В Ленинграде у нас одна женщина из соседней квартиры была портнихой. Она ходила к Аглае Марковне на спиритические сеансы. Я помогала ей со стиркой, а портниха за это научила меня шить на машинке и разбираться в тканях и модных фасонах, и ещё сшила мне кое-что из обрезков…
Мужчина показал матери в развёрнутом виде документ с красной корочкой и представился устно:
– Бродов Николай Иванович.
Ого! Это тот самый человек, который подписал для матери вызов в Москву, чтобы её сразу отпустили с завода! Именно к товарищу Бродову направила меня Аглая Марковна. Надо же, не помощника послал, а лично приехал!
Они с матерью пожали руки, и мать скорее подхватила чемодан, за который боялась, а Николай Иванович обратился ко мне, коротко улыбнувшись:
– Ты же Таисия?
Я подтвердила и, поставив на платформу свой багаж – небольшой плетёный короб, по примеру матери протянула ему руку…
Если уж быть точной до конца, надо отметить, что тогда меня звали по-другому. Как – теперь вовсе не важно. Все операторы носили новые имена. Девчонки-медички как-то в доверительном разговоре клялись, что мы знаем их под настоящими именами, но полной уверенности в этом у меня не осталось. Лично мне новое имя понравилось. Товарищ Бродов выбирал в моём присутствии из списка. «Таисия. Пойдёт?» Обращался он к Михаилу Марковичу, своему ближайшему помощнику, однако, не дав тому ответить, повернулся ко мне: «Тая, Таисия… Тайная, таинственная… Как тебе?» – «Можно», – смущённо выдавила я, плохо ориентируясь, зачем мне это новое имя понадобится.
Однако то происходило немного позже. Чтобы не запутаться, пойду-ка я лучше последовательно по всем событиям…
Его узкая ладонь была сухой и тёплой, рукопожатие – твёрдым. Во время нашего короткого диалога товарищ Бродов, не скрывая интереса, внимательно смотрел мне в лицо.
Потом он повёл нас сквозь толпу, валившую с разных сторон, попросив не отставать и не теряться. Поездов стояло много, не разберёшься, какие только прибыли, какие ждут очереди на отправку. Там и тут пролетали плотные клубы паровозного дыма. Пассажиры, которые ехали транзитом, толпились на перронах, где не было перекрыто решётками, и в здании вокзала: они же не имели московских пропусков. Многие метались, пытаясь понять, куда им теперь деваться и как попасть на нужный поезд. Люди искали, как бы разжиться водой и где достать поесть…
Когда отъезжали из Ленинграда, толпа была ещё более суматошной и напряжённой. У дальнего перрона грузили санитарный эшелон. За головами и спинами, среди клубов чёрного дыма, я мало что видела, но и от того, что разглядела, мороз продрал: столько калечных, кровавые повязки, искажённые страданием лица. Зрелище притягивало взгляд помимо воли. Когда мы уже ехали и уже миновали Бологое – самую опасную часть пути, я всё боялась уснуть: как бы не пришли ко мне во сне тяжелораненые. И с замиранием сердца ждала, что на вокзале в Москве снова будет стоять санитарный эшелон – быть может, тот же самый. Не случилось, и я, как ни совестно сознаться, вздохнула с облегчением.
Кое-кто из прибывших пытался выяснить, как и где можно всё-таки получить пропуск. Почему-то далеко не все знали, что Москва, находившаяся уже больше месяца на военном положении, закрыта. Счастливчики, у которых пропуска имелись, стояли в длинных очередях. Молодые военные в фуражках с синим верхом внимательно и подолгу изучали каждый предъявленный документ, лицо предъявителя, багаж.
Наш товарищ Бродов решительно провёл нас мимо всех очередей к проходу в ограждении. Наши пропуска были у него. Он показал высокому плечистому военному свою красную «корочку». Тот вытянулся и козырнул, затем быстро и формально пролистал остальные бумаги. Мы с матерью, как барыни, прошествовали мимо всех, ожидавших очереди на проверку документов. На площади нас ждал ещё один сюрприз: просторный чёрный автомобиль. За рулём – шофёр в военной форме. Он хотел выскочить из машины при появлении товарища Бродова, но тот жестом остановил его, открыл нам дверцу у заднего сиденья, а сам сел впереди.
– Владимир, мы ведь поедем Охотным Рядом? Мимо Кремля помедленнее, хорошо? Дальше на Арбат и… ну, вы знаете. – Николай Иванович живо обернулся к нам: – Мы будем ехать по самому центру Москвы. Так что смотрите, сравнивайте с Ленинградом.
Я прямо чувствовала, как нравится матери вся ситуация в целом и товарищ Бродов – в особенности. Персональное внимание крупного начальника тешило её врождённую гордость…
Бабушка порой беззлобно подтрунивала над ней: «И как ты у меня получилась такая пыня?! Не нашей ты породы, не деревенская, а прямо барыня». Мать отвечала так же весело, нарочито лукаво прищурившись: «Вам уж виднее, в кого я такая!» – «Ах ты, бесстыдница! Что матери говоришь! Да при ребёнке!» И бабушка шутливо, не сильно шлёпала мать скрученным полотенцем по спине. Это редкие были минуты, когда мать, позабыв заботы, веселилась от души. Бабушка – та часто шутила, смеялась…
В товарище Бродове ощущалась внутренняя сила, но такая сдержанная, воспитанная. Ненарочитая властность товарища Бродова, конечно, поразила воображение матери. Я тоже потихонечку к нему пригляделась.
Есть люди, про которых можно сказать: «некрасивый», «не симпатичный». Про Николая Ивановича так не скажешь. Внешне он был просто, что называется, «неинтересный». Даже первоклассный костюм, делавший его, безусловно, импозантнее, не придавал его внешности хоть какого-то шарма…
Что я так привязалась к одежде? Да просто неожиданно, что он оказался в штатском. Мы же с матерью читали подпись под вызовом: там было указано звание…
Николай Иванович крайне скупо улыбался, а большей частью хранил строгое выражение лица. Он был по-военному коротко стрижен и гладко выбрит. Чудно, по моим понятиям, смотрелся начальник без усов. Даже мой отец, простой человек, носил аккуратно подстриженные, в виде прямоугольной щёточки усы…
Отец воевал с немцами в той, первой, войне, был отравлен газами и, сколько помню, всё время хворал: у него была слабая грудь. Но он следил за собой, был всегда одет в недраное, аккуратно подстрижен. Высокий, худощавый, он и лицом вышел. Мать говаривала, если честно, не без сожаления: «Я с лица собиралась воду пить, когда замуж шла». Она намаялась с ним, конечно, с хворым: сколько мужицкой работы ей досталось, и трудодни одна зарабатывала. Но я крепко любила отца, и он – меня. Он был добрым и, когда не болел, весёлым… Вот снова я отвлеклась. Всё. Последний раз.