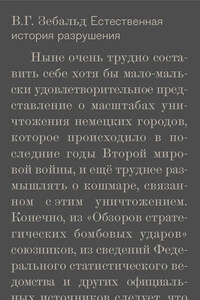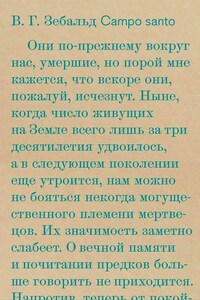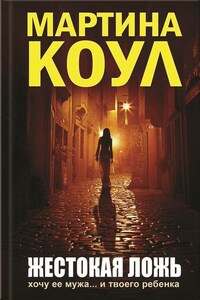В середине мая 1800 года Наполеон с тридцатью шестью тысячами войска перешел через Большой Сен-Бернар, осуществив предприятие, до той поры считавшееся совершенно немыслимым. Почти четырнадцать дней необозримый караван людей, животных, техники и припасов тащился из Мартиньи через Орсьер по долине Антремон, затем по бесконечным, казалось, серпантинам вверх к перевалу на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря, при этом тяжелые стволы пушек приходилось укладывать в выдолбленные бревна и волочить по снегу и льду, а местами и по свободной уже от снега скальной породе.

К числу немногих участников легендарного перехода через Альпы, не оставшихся безымянными, принадлежал Анри Бейль. Было ему тогда семнадцать лет, он как раз переживал расставание со столь ненавистными ему детством и юностью и не без энтузиазма предвкушал вступление на поприще армейской службы, которое, как мы знаем, впоследствии открыло ему многие пути на просторах Европы. Записки, которые он набросал в возрасте пятидесяти трех лет – тогда он на время осел в Чивитавеккье – и в которых пытался воскресить в памяти тяготы тех дней, наглядно демонстрируют самые разные сложности вспоминания. Кое-где его представления о прошлом сводятся к одним только панорамам бескрайних серых полей, а иной раз он внезапно натыкается в памяти на картины столь поразительной ясности, что, кажется, сам не решается принимать их на веру; таков, например, образ генерала Мармона, якобы встреченного им в Мартиньи с левой стороны от дороги, по которой тащились обозы, при этом генерал, как представляется Бейлю, был облачен в мундир члена Государственного совета, с небесно-голубой по темно-синему нашивкой; в точности таким, уверяет нас Бейль, видит он его и поныне, стоит лишь, закрыв глаза, вызвать в памяти давнюю сцену, хотя, как ему прекрасно известно, Мармон должен был быть в генеральской форме, а вовсе не в синем штатском наряде.
Уверив нас, что по причине нелепейшего воспитания, направленного исключительно на развитие навыков, почитаемых третьим сословием, сам он к тому моменту имел конституцию четырнадцатилетней девицы, Бейль пишет, что трупы лошадей по обочинам и прочий хлам, какой ползущая вперед армия оставляла за собой, оказали на него воздействие, которое лишило его возможности сохранять и впредь ясное представление о том, чтó именно тогда пробуждало в нем ужас. Словно чрезмерность впечатления, так ему представляется, грубым насилием разрушила последующие воспоминания. По этой причине приведенный ниже рисунок следует рассматривать как своего рода вспомогательное средство – с его помощью Бейль пытается вызвать в воображении картину того, что было в действительности, когда воинское подразделение, в составе которого он двигался вперед, угодило в районе деревни и крепости Бар под обстрел. В – это местечко Бар. Три буквы С в правой верхней части рисунка обозначают пушки крепости, которые обстреливают точки L, L, L на дороге, тянущейся по верху крутого склона Р. Буквой Х отмечено место внизу, в пропасти, где лежат лошади, что, в ужасе оступившись, рухнули вниз – и их уже нельзя было спасти; Н означает Анри (Henri), позицию рассказчика. Конечно, когда Бейль действительно был в той точке, он видел происходящее иначе, поскольку в реальности, как мы знаем, все всегда по-другому.

Впрочем, пишет Бейль, даже в тех случаях, когда речь идет о воспоминаниях, сохраняющих определенную близость к реальности, полагаться на них все же не стоит. Не менее яркое впечатление, чем великолепное явление генерала Мармона в Мартиньи, в самом начале подъема, произвела на него открывшаяся сразу же после преодоления наиболее трудного участка пути – спуска с перевала – долина Сен-Бернар в утренних лучах солнца. Он не мог оторвать взгляд от этой прекрасной картины, а в голове у него все время крутились итальянские слова – quante miglia ci sono da qui a Ivrea и donna cattiva[1], – за день до того впервые услышанные от священника, у которого он квартировал. Бейль пишет, что долгое время пребывал в уверенности, будто помнит эту дорогу верхом до мельчайших подробностей, в особенности же картину, какую при угасающем свете дня явил собой впервые открывшийся ему с расстояния примерно в три четверти мили город Ивреа. Там, где долина, расширяясь, медленно переходит в равнину, лежал этот город, чуть правее центра, в то время как слева, сколько хватало глаз, вздымались горы – все выше и выше к вершине Резегоне-ди-Лекко, которая впоследствии будет значить для него так много, а совсем уж на заднем плане высилась Монте-Роза.
Для него, пишет Бейль, стало глубоким разочарованием, когда несколько лет спустя, перебирая старые бумаги, он наткнулся на гравюру под названием «Prospetto d’Ivrea» и вынужден был признаться себе, что картина лежащего в закатных лучах города из его якобы собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как копию этой самой гравюры. Потому и не следует, советует Бейль, приобретать гравюры с хорошими видами на встреченное в пути. Ибо вскоре гравюра целиком завладеет тем местом в памяти, которое отведено для собственного нашего воспоминания об этом, и, можно сказать, разрушит его. К примеру, чудесную «Сикстинскую Мадонну», виденную в Дрездене, Бейль, как ни старался, вспомнить не мог совсем, поскольку ее образ вытеснила гравюра, сделанная с картины Мюллером, а вот дрянные пастели Антона Менгса из той же галереи, гравюр с которых он позднее нигде не встречал, отчетливо отпечатались в памяти. [2]
Все дома и общественные территории в Иврее заняты были стоящей биваком армией, однако для себя самого и капитана Бюрельвилье, вместе с которым Бейль вошел в город, ему удалось все же устроить квартиру – в складском помещении красильни между бочонков и медных котлов, со всех сторон овеваемую странными кисловатыми запахами, причем едва спешившись, он вынужден был защищать ее от мародерствующей толпы, жаждавшей сорвать с петель ставни и двери, чтобы бросить их в костер, разведенный посреди двора. Не только поэтому, но и вследствие всего пережитого в последние дни Бейль чувствовал себя взрослым и, невзирая на голод и чрезвычайную усталость, не принял во внимание предостережения капитана, когда в порыве предприимчивости поспешил в эмпорий, где, как он знал уже из многочисленных афиш, давали в тот вечер «Il Matrimonio Segreto»[3] Чимарозы.
Фантазия Бейля, и без того по причине царившего вокруг хаоса приведенная в состояние брожения, теперь, благодаря музыке Чимарозы, разыгралась еще сильнее. Уже в первом акте, в том месте, где тайно вступившие в брак Паолино и Каролина соединяют голоса в исполненном страха дуэте: «Cara, non dubitar: pietade troveremo, se il ciel barbaro non è», он и вправду поверил, будто стоит на подмостках примитивной сцены и даже в самом деле находится в доме тугого на ухо торговца из Болоньи, держа в объятиях его младшую дочь. И столь сильно тогда сжалось его сердце, что далее в ходе представления на глазах у него то и дело выступали слезы, а покидал он эмпорий уже в совершенной убежденности, что актриса, певшая Каролину, вне всякого сомнения, не раз обращала свой взор прямиком на него и, конечно, способна подарить ему обещанное музыкой блаженство. При этом ему не мешало ни в коей мере, что левый глаз обладательницы сопрано заметно косил в сторону, когда она преодолевала сложные колоратуры, а во рту отсутствовал правый верхний глазной зуб; недостатки лишь крепче привязывали восторженное чувство. Теперь он знал, где следует искать счастья; не в Париже, как полагал он прежде, будучи в Гренобле, и не в горах Дофине, о которых порой тосковал в Париже, но именно здесь, в Италии – в такой музыке, подле такой вот певицы. И эту убежденность не могли поколебать сальные шутки капитана о сомнительных нравах актрис, которыми тот дразнил Бейля на следующее утро, когда они, оставив Иврею позади, уже скакали в направлении Милана; Бейль остро ощущал, как движения его сердца щедро изливаются на просторы летнего ландшафта и в ответ его отовсюду приветствуют свежей зеленью бесчисленные деревья.