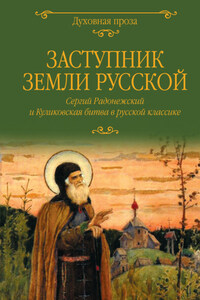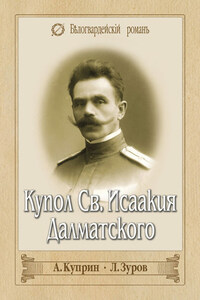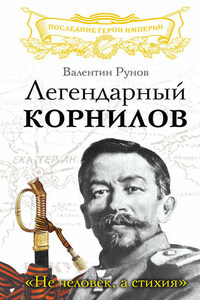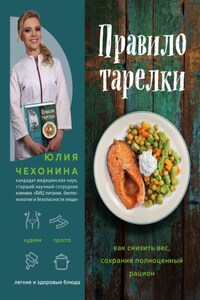«…Когда я родился – я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился…»
I
Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к весёлости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трёх часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.
Суета и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицы на Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты – всё смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько её выбранили.
К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчёт предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, – метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится – касса цирка существенно пострадает.
Так или почти так рассуждал режиссёр цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.
В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссёр мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное всё: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи – уходили в темноту, местами неопределённо чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемнённые снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать ещё больше сумрака. Во всём этом обширном тёмном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.
За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай учёных собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забелённые известью. У основания их, вдоль закруглённых коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свёртки цветных флагов; при свете газа чётко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золочёный шест и выделялась голубая, шитая блёстками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч с тем, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.
Несмотря, однако ж, что всё здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопряжённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, – в этом светлом коридоре и расположенных в нём уборных встречались больше лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.
Так и теперь было.
В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блёстками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.
Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперёк лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.
Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.
При виде вошедшего режиссёра он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссёр поспешил остановить его.
– Эдвардс, погодите минутку; успеете ещё раздеться! – сказал режиссёр, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, – подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун… Где мадам Браун? Позовите её сюда… А, фрау Браун! – воскликнул режиссёр, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, ещё старше салопа.
Фрау Браун подошла не одна: её сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.
Она также была бедно одета.
– Фрау Браун, – торопливо заговорил режиссёр, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, – господин директор недоволен сегодня вами – или, всё равно, вашей дочерью: очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!