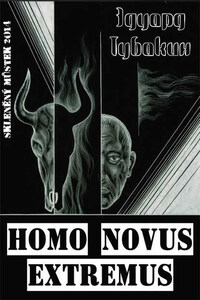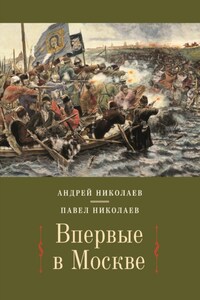На плакате формата А2 полыхали башни-близнецы. В семь часов утра отворял очи, взгляд вместе с угнанным самолетом, врезывался в стену прямо перед собой. Повесил, чтобы не сбиться с откалиброванного спортивным режимом биоритма и цель в жизни не забыть. Какова она, никому неизвестно, но непреложна, объективна так же, как, допустим, таблица умножения на обложке школьной тетради.
В пионерском лагере майку носил с иностранными словами. Помнит окончание фразы: …sinn fein![2]
– Сними по-хорошему, – советовала ему вожатая, – они ж, империалисты, умное не напишут, наверняка, пошло-матерное.
По-хорошему не снял. Дружок ее, с твердыми кулаками тряпку присвоил.
Возразите: сейчас, мол, таблиц и песен на обратной стороне не публикуют, школьные принадлежности выпускают с различными иностранными словами, а ругательные они или нет, зависит от трудностей перевода. Если отыскать именно ту, старую тетрадь в клетку с промокашкой на первой странице, то и цель – та, что надо. Умножать или делить, каждому решать самому. Тетрадь сберег. До тридцати лет делил и традицию решил не нарушать. С годами, когда при делении целое число не получалось, после запятой оставлял все больше значений.
Вокруг жизнь хирела. Раздавались взрывы в людных местах, правоохранительные органы обещали наказать, по разные стороны мониторов искренне негодовали, на глухих, московских, кривых улочках забивали насмерть инородцев. Яша был отстранен от реалий. Накручивал на мизинец георгиевскую ленту. Свои бы он спланировал более тщательно, издох бы тот, кому надо издохнуть. Скоро прогремят.
В часы пик жажда разрушений усиливалась. Электричка угрохатывала отражение, возвращала следующим составом в окнах: всхуднувшее, с удлиненными передними конечностями (костюмы не сидели по фигуре, приходилось шить на заказ), изготовленным к охоте за последним вагоном.
Родинка, по форме шляпка гриба с черной точкой на вершине вызывала в руках зуд. Неужели не чувствует? Женщина, дайте пройти! Опоздал, подожду. Бывает лысину чужую, зазывно блестящую, нестерпимо хочется потереть. Взять ластик и ширк-ширк!
Шляпка пробирала кондитерским совершенством. Содрать или черкануть лезвием под корень, во рту покатать. Прежде точку убрать.
Яша вздрагивал от собственной мысли. Следовало держать себя в рамках. Она твердая, мясистая. Лучше отварить. Хмуро косился на бедную, виноватую женщину, своим крупом сдерживающую поползновения к надписи на дверях «Не прислоняться». Встряхивался, прогоняя гипнотическую пелену, видел, не один он, кипящий. Сзади ему дышал жареным луком в ухо, рыжий с пластырем на шее, в старомодных клетчатых штанах-трубах. Шипел: «Иди уже!» Бабуля подталкивала внука. Упирался. Надо, надо, надо! Дружно желали смерти друг другу, вталкивались и мчались.
От утопленников, выносимых на перрон толчеей людских приливов, задники ботинок не спасались. Они тут же отбрасывались полдневными хвостами ящериц, отрастали вновь, отваливались через минуту. Раздражаясь, хлопал себя по карманам в поисках револьвера. С сожалением вспоминал: никогда не пользовался огнестрельным. Ненавидел скотобойни, ловлю рыбы на крючок, охоту. Мясное уважал. Покупал с супермаркетах субпродукты. На резонную мысль о том, что приготовленное прыгало когда-то живым, кто-то вынужден убить беднягу и сделать из него котлетины[3], оправдывался по аналогии: я де, портняжничать не умею и не люблю, однако одеваться красиво привык. Для всего есть специально обученные люди.
Грохнуло, грянуло. Вагоны перетрясло. Попали в тишину, где жизнь предполагалась. Стекловатное облако. В нем только плыть. Движения плавные, бежишь ли, идешь. Кожа лоскутной колючестью, натянутая на невидимую, прочную леску, повисла до кадыка. Глотание слюны вперемежку с собственной кровью. Звонил по виду школьник с ранцем за спиной, в серой толстовке с наброшенным на голову капюшоном, каждое слово обозначал хриплым клокотанием ржавого, неисправного смесителя:
– Мам! Бульк! Нет! Кхиш. Бульк! Со мной хорошо. Бульк! Кровь горлом…Кхезижш.
Женщина пыталась поправить джинсы. Их сорвало до колен. Обнажился пупырчатый, бритый лобок. Другой парень в бейсболке с бескровным удивлением разматывал пряжу коричневатых кишок. Опьянев от зрелища, падал, поднимался, покачивался, валился. Вытащил складной нож. Надо помочь человеку. Обрезать пуповину страданий и прервать утомленные поверхности с разветвлением клубка капилляров. Парень справился, разложил на руках петли священной плащаницей, торжественно понес к выходу. Яша не знал, куда правильнее двигаться, последовал за подранком, мимо конечностей, вывалившихся разбитой поленницей на середину зала метро. Вынырнул мужчина с ребенком на руках. Судя по чистой одежде и бодрому настроению, появились позже. У новоявленного были длинные, сожженные перекисью волосы, заправленные женской резинкой в хвост.
– У, душегубы! – беспрестанно кричал он.
Бесполое дитятко с безмятежным лицом непальской богини, тыча пальцем в человеческие останки, «гуливанило». Мужчина щекотал его пальцем меж ребрышек и подбрасывал, оно закрывало глазки от удовольствия и похохатывало, визжало сорванной болгаркой, раздражая уцелевших пассажиров и зевак, цеплялось пальчиками-крючками за прохожих, мешало беззаботно снимать апоплексический антураж бездействия, всеобщей растерянности на мобильные фото и видеокамеры.
– Ведите себя прилично! – сделала замечание семнадцатилетняя девушка, наводя фокус почетче на человеческий суповой набор.
Стоявшая рядом с молодой девушкой, женщина, в нарядном вечернем платье, с бусами и огромными клипсами, толкнула странную пару:
– Отойди, юродивый! Закрываешь виды!
– Душегубы! – жутко заорал в ответ.
Выползали потравленными насекомыми умирать наружу. Сто лет в ожидании машин скорой помощи. Тот самый в американской кепке с надвинутым козырьком на глаза, сдавал курс молодого бойца: преодолел по-пластунски не один десяток метров, хотя его удерживали, умоляли потерпеть. Яшу настигла вторая мутная волна желания перерезать мученику горло, но удержался, не был уверен, что и после не будет ползать, вздрагивать, плакать. В тайге довелось наблюдать. Лисица задавила косого. Сжала челюсти и несколько раз встряхнула, заяц повис мягкой, благодарной игрушкой. Яша переживал. Люди не умеют безболезненно умерщвлять.
Страх, заключенный в решетку сознания, вырвался буйным сумасшедшим, выгреб наружу пластилиновую кашу скромного утреннего перекуса, разгромил остатки былого хладнокровия и достоинства. Била дрожь. Не мог согреться. Кое-как справился с молнией и всеми застежками на куртке. Поднял воротник. Поймал себя на фразе, повторяемой скороговоркой: