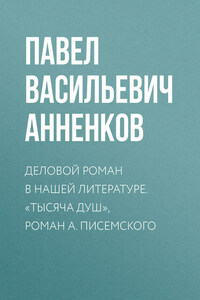Зиму 1849/50 года мне пришлось прожить в одном из губернских городов нашего Поволжья. Время было довольно неопределенное. Только что прогремела революция 1848 года в Париже, подымая за собой народные массы в большей части европейских столиц – в Берлине, Вене, Неаполе и др. и неожиданно обнаруживая, как много существовало в них, под покровом обманчивой тишины и внешнего благочиния, недовольства порядками жизни и политических страстей. Ничего подобного у нас не встречалось. Наша тишина была неподдельная, испытанная. Начиная с богатейшего земельного собственника и через весь ряд именитого и заурядного чиновничества до последнего торгаша на улице, все в один голос гордились и радовались тому, что политические бури и ураганы никогда не досягают и никогда не достигнут, по всем вероятностям, наших пределов. Нашлись, однако же, мудрецы, которым было мало этого. Относя спокойствие государства и общества к действию одного крепостного права, которое они поэтому и возвели в непререкаемый догмат русской жизни, мудрецы еще думали, что к выражениям народного патриотического настроения должно относиться дружелюбно, но действовать так, как будто его вовсе и не оказывалось. Ведь нельзя же, говорили они, полагать, что волны европейских событий никогда не докатятся до нас и не подроют где-нибудь втихомолку основ, на которых построена наша жизнь. Правильно понятый патриотизм обязан искать таких опасных подземных течений и благодарить тех, которые их открывают.
Результаты теории известны. Кроме всего прочего, явились подозрительные отношения к науке, враждебное настроение против утопистов, идеалистов, ученых, расплодившихся без меры и без ведома правительства под сению университетов. Цензура печати наравне с цензурой нравов и убеждений отданы были на произвол всем «ведомствам» и всем частным лицам, которые обнаружили бы к ней охоту и способности[1].
Так продолжалось до конца Крымской кампании, когда возникло движение, возвестившее наступление нового общественного периода. В этот грозный промежуток времени замолкли и так называемые деятели сороковых годов. Почти все они состояли еще налицо и находились в цветущей поре сил; но у них отобраны были, впредь до дальнейших распоряжений, их научные основы и предложено заменить их покамест другими, поправленными согласно требованиям эпохи. Образовалась умственная пустота в общественной жизни, прерываемая обычным появлением журналов, со страниц которых несся какой-то смутный говор, ряд мнений и положений, словно переряженных или нарочно искалеченных для того, чтобы они не походили на дельные мнения и положения и не могли ввести читателей в искушение остановиться на них и посвятить им свое внимание.
В эту пору перерыва умственной жизни общества послышались голоса из органа М. П. Погодина и славянофилов, «Москвитянина», которые, при господствовавшем молчании, показались знамением времени, как бы указывавшим на скорое появление новых сил и литературных задач. Вокруг журнала, и, кажется, без особенных стараний редактора, образовалась группа молодых писателей, имевшая своих критиков, этнографов, философов, беллетристов и драматургов, которую петербургские их собраты приняли спервоначала за отрождение славянофильства, благодаря тому, что группа выказывала если не враждебность, то полное равнодушие к предшествующей публицистической деятельности западного кружка и искала других основ для развития, чем он. Писатели, составлявшие группу, обратились за источниками художественных вдохновений и за устройством своего созерцания к верованиям и бытовым привычкам народных масс. Не мудрено, что эти новые народолюбцы подали повод к недоразумениям; дороги, ими открываемые, близко шли около тропинок, пробитых прежде того славянофилами. Смешать их с последними было очень легко по общности вопросов, затрогиваемых обоими; но существовала большая разница в их способах понимать народную культуру и относиться к ней. Члены нового кружка, почти все без исключения, обладали значительным критическим чутьем, и это помогало им различать несостоятельность некоторых сторон русской жизни, хотя бы и выращенных веками и носящих на себе печать самой почтенной древности. Исконные славянофилы постоянно избегали всех таких разоблачений. Другое отличие школы от ее первообразов заключалось в убеждении, что указания западной науки должны еще способствовать к очищению и к укреплению русской народности на ее родной почве, – положение, неохотно допускаемое коренными славянофилами, которые видели в нем признак скрытного отщепенства. Обе партии связывались только одним общим чувством нерасположения к отрицанию важности народного быта, к абстрактному философствованию в области критики и публицистики, чем, по их мнению, отличался весь прошлый петербургский литературный период. Но и тут существовали еще между ними значительные оттенки в мнениях. Так, озлобленные выходки тогдашнего «Москвитянина» против петербургских либералов, которых уже вовсе и не было, далеко не выражали всех взглядов и убеждений молодых сотрудников журнала; но редактор, кажется, с ними никогда и не справлялся для подобных заявлений. Как бы то ни было, московский кружок новых деятелей составлял замечательное явление даже и по количеству весьма талантливых людей, к нему пристроившихся. Он числил в своих рядах, между другими менее известными именами, еще А. Григорьева, Т. Филиппова, Эдельсона, Алмазова, А. Потехина, наконец А. Н. Островского и А. Ф. Писемского[2]. На последнем мы и остановимся.
Хорошо помню впечатление, произведенное на меня, в глуши провинциального города, – который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, – первыми рассказами Писемского «Тюфяк» (1850) и «Брак по страсти» (1851) в «Москвитянине». Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выводимых. Тут била прямо в глаза русская мещанская жизнь, вышедшая на божий свет, торжествующая и как бы гордящаяся своей открытой дикостью, своим самостоятельным безобразием. Комизм этих картин возникал не из сличения их с каким-либо учением или идеалом, а из того чувства довольства собой, какое обнаруживали все нелепые их герои в среде бессмыслиц и невероятной распущенности. Смех, вызываемый рассказами Писемского, не походил на смех, возбуждаемый произведениями Гоголя, хотя, как видно из автобиографии нашего автора, именно от Гоголя и отродился. Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на «затаенные слезы» не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, то есть самая редкая у новейших писателей, та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековские фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток