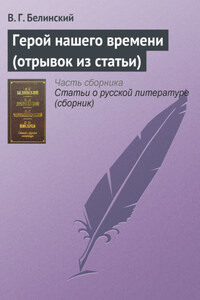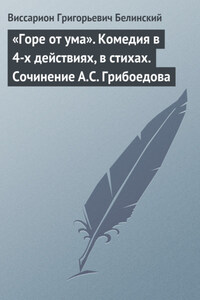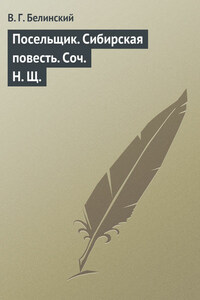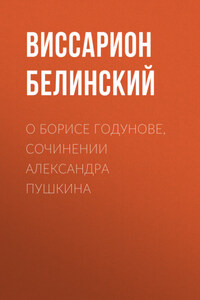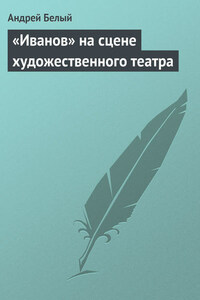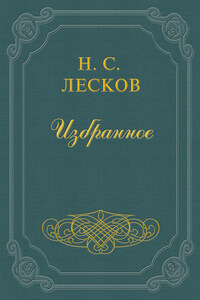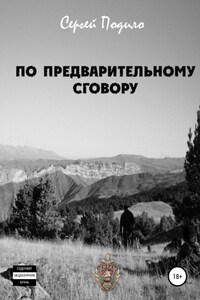В нашей вялой и прозаической жизни всякая новость возбуждает всеобщее внимание и сильно занимает собою умы всех и каждого. К числу таких новостей принадлежит вторичный приезд в Москву знаменитых петербургских артистов, Каратыгиных{1}. Кто не помнит, как засуетилась наша белокаменная во время их первого приезда, какая была давка у театра, как трудно было доставать билеты, как толковали и спорили об игре любимцев петербургской публики и в аристократических гостиных и гостиницах, и в плебейских горницах и трактирах, и на улицах и перекрестках? Кто не помнит знаменитого турнира, на котором было переломлено столько копий и pour и contre[1] во имя Каратыгиных П. Щ. и г. Шевыревым и ареною которого была «Молва»{2}. Кто не помнит, как г. Шевырев, после нескольких упорных и утомительных схваток, оставил поле битвы и не кончил сражения, обидевшись невежливостию своего хладнокровного и несговорчивого противника, не хотевшего поднять забрала своего шлема и провозгласить своего рода и имени?.. Оно, кажется, тут бы не на что претендовать: ведь журнальные турниры совсем не то, что рыцарские турниры. Благородные рыцари почитали предосудительным для себя сражаться с безымянными противниками, ибо вменяли в бесчестие подвергать свое благородное тело невежливым ударам какого-нибудь плебея и не видели никакой для себя славы в победе над противником незнатного рода и племени; но в литературе геральдика вещь совершенно посторонняя; в ней важны дела, а не имена. Но всем уже известно, что г. Шевырев скрепу критических статей именами их авторов почитает самым верным для избежания от наветов, коварства и недобросовестности критики и крепко убежден, что критик, скрывающий свое имя, непременно должен иметь какие-нибудь недобрые умыслы в отношении к своему противнику… Как бы то ни было, дело не о том… и потому я обращаюсь к предмету моей статейки, под которой, однако, не подписываю полного моего имени, ибо хочу высказать мое мнение, а не блеснуть моим именем, которое очень неважно и до которого посему никому нет дела.
Итак, всем памятны шум и движение, произведенные прежним приездом в Москву г-на и г-жи Каратыгиных… Такое же ли точно действие произвел теперешний их приезд? Кажется, что нет. Правда, и теперь по утрам ужасная давка при раздаче билетов, и теперь ходенем ходит огромный Петровский театр от грома рукоплесканий нашей доброй и не слишком взыскательной публики, и теперь в той же самой «Молве» вышел к арене таинственный г. П. Щ.{3}, но рукоплескания уже не так единодушны и дружны, уже часто они прерываются и заглушаются ропотом неудовольствия; но таинственный г. П. Щ. что-то решительнее и резче, хладнокровнее и насмешливее в своем тоне и пока еще не встретил ни одного противника… Что бы это значило?.. Неужели г. Каратыгин, этот артист, так горячо любящий свое искусство, так глубоко и усердно изучающий его, вместо того чтобы итти вперед, пошел назад и сделался хуже?..
Нет: он все тот же, но уже не те обстоятельства: к нему присмотрелись, его разглядели, а прелесть новости потеряла свою магическую силу. Вот и разгадка этой загадки. В искусстве есть два рода красоты и изящества, так же точно, как есть два рода красоты в лице человеческом. Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так – сказать; другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние первой быстро, ко не прочно; второй – медленно, но долговечно; первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и нередко странность; вторая берет естественностию и простотою. Марлинский и Гоголь – вот вам представители того и другого рода красоты в искусстве. Я не отрицаю таланта в г. Марлинском и пока еще не вижу гения в г. Гоголе, но хочу только показать разность между талантом случайным, то есть развившимся вследствие или обстоятельств жизни, или направления, полученного с детства, и талантом самобытным, не зависимым от обстоятельств жизни. Первый всему обязан образованием, а без него ничего не значит; второму образование дает обширнейший круг действия и возвышает его взгляд на природу, но не усиливает его ни на волос. Шекспир и Вольтер – вот два драматурга, оба с талантом, но один невежда, а другой всезнайка – нужно ли тут слишком распространяться? Но изо всех признаков, которыми отличается талант природный от таланта случайного, для меня разительнее следующий: талант самобытный всегда успевает, когда не выходит из своей сферы, когда остается верен своему направлению, и всегда падает, когда хватается не за свое дело вследствие расчета или системы; талант случайный берется за все и нигде не падает совершенно; г. Марлинский во всех своих повестях, как ни разнообразны они, одинаков и ровен, то есть вполовину хорош, вполовину дурен; г. Гоголь вздумал написать фантастическую повесть а lа Hoffmann («Портрет»), и эта повесть решительно никуда не годится.
Повидимому, я отдалился от предмета моего рассуждения, но в самом деле я гораздо ближе к нему, нежели как можно ожидать. У нас два трагических актера: г. Мочалов и г. Каратыгин, хочу провести между ними параллель. «Какое невежество! Каратыгин и Мочалов – fi donc! Можно ли помнить о Мочалове, говоря о Каратыгине?..» Не знаю, будут ли мне сказаны подобные слова, но я уже как будто слышу их. У нас это так натурально; мы так неумеренны ни в нашем удивлении, ни в нашем презрении к авторитетам. Теперь как-то странно и даже страшно произнести имя г. Мочалова, не имея намерения посмеяться над ним, как смеются над Александром Орловым, говоря о Вальтере Скотте. Но я думаю иначе, и если каждый в деле литературы и искусства может иметь свое мнение, то почему же и мне не иметь своего, хотя мое скромное имя и не значится в литературных Адрес-календарях?..
Всем известно, что с г. Мочаловым очень редко случается, чтобы он выдержал свою роль от начала до конца, однакож все-таки случается, хотя и редко, как, например, в роли Яромира в «Прародительнице»; в роли Тасса{4} и некоторых других. Потом всем известно, что он может быть хорош только в известных ролях, как будто нарочно для него созданных, а в прочих по большей части бывает решительно дурен. Наконец всем также известно, что, часто дурно понимая и дурно исполняя целую роль, он бывает превосходен, неподражаем в некоторых местах оной, когда на него находит свыше гений вдохновения. Теперь всем известно, что г. Каратыгин равно успевает во всех ролях, то есть что ему равно рукоплещут во всевозможных ролях – в роли Карла Моора и Димитрия Донского, Фердинанда и Ермака, Эссекса и Ляпунова. По моему мнению, в декламаторских ролях он бывает еще лучше, и думаю, что он был бы превосходен в роли Димитрия Самозванца, трагедии Сумарокова, и во всех главных персонажах трагедий Хераскова и барона Розена… Какое же должно вывести из этого следствие?.. Что г. Мочалов талант низший,