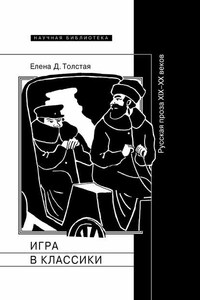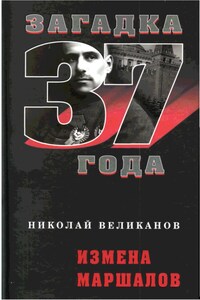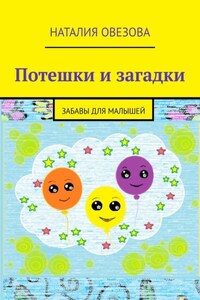Осмысление глобальных вызовов современного мира выявляет черты кластерности и дискретности культурного универсума. Вместе с тем очевидны поиски универсальных стратегий культуротворчества, ориентирующихся на непростой путь долгого восхождения к высотам миросозерцания разумно-ценностного, преодолевающего ступени рассудочно-утилитарных интенций. В этом аспекте анализ проекта Просвещения, как еще недавно было модно говорить, предстает крайне неоднозначным и плодотворным.
XX век «освободил» нас от многих заблуждений. Одно из них – культура есть высшее достижение человеческого духа, и по отношению к природе она совершает «дар благодати»: только с помощью культуры природа приобретает особый облик, неизвестный ей самой. Только культура реализует заключенные в природе возможности и определяет способ ее существования. В действительности дело обстоит не совсем так: природа превращается в гигантскую кладовую запасов сырья для производства. Вместе с природой и человек становится лишь средством. Предполагается, что Разуму дано знать, что нужно самой природе (в том числе и природе человека, его биологии, его физиологии и психологии) и как ее переделать, чтобы приспособить к культуре. Это заблуждение – результат представлений, которые начали складываться в Античности, но окончательно сформировались к XVIII веку. Знаменитое изречение Бэкона «знание – сила» замещает культ Бога культом Разума, Пользы, становится базисным понятием эпохи Просвещения и знаменует рождение культуры научно-технического прогресса и этики утилитаризма. Картина последствий, вызванных заменой культа Бога культом Разума, достаточно ясна.
«Жизненная» ставка Просвещения на принцип Рацио парадоксально обернулась глубоко иррациональными последствиями. С победой Déesse Raison начинается всеобщая невротизация современного человека, то есть диссоциация личности [491, с. 240–246]. Душа оказалась разделенной «колючей проволокой», по одну сторону которой находилась пропасть вожделений, инстинктов, страстей, большая часть которых, в психоаналитической интерпретации, была скрыта темной силой id. По другую сторону – необходимость «встроиться» в макрокосм общества и культуры. В редчайших случаях человеку удается справиться с постоянным противоречием и направить свою жизнь к одной-единственной цели. Но и это происходит тоже за счет других сторон его существа.
Психология XX века показала, что у человека «можно, конечно, отнять Богов, но только если ему дать других» [432, с. 239]. Рассудок и Польза не могут быть этими другими.
В данном контексте более понятно, что методология представленного исследования строилась, с одной стороны, на давно озвученных принципах различения морального и нравственного в человеке. Но, с другой – еще никогда прежде этот принцип не превращался в универсальный способ не столько личностной, сколько социальной диагностики. Диалектика морального и нравственного начал в саморазвертывании социальных институтов – то безусловно новое в постановке проблемы, что позволило иначе взглянуть на современный кризис культуры.
«Расколдованный мир» вместо полноты божественного не способен дать ясный ответ на вопрос, кто есть человек и зачем он? И вместе с тем в недрах человеческой природы есть нечто иррационально данное – неодолимое стремление, ожидание особого опыта переживания, по-разному именуемое в разных источниках, но свидетельствующее о необходимости сосуществования и примирения знания и веры.
«Расколотость» души современного человека – проекция «расколотости» культуры, – проблема, именуемая привычным словосочетанием «кризис культуры». Все больше свидетельств в пользу того, что это – болезнь всего человечества. Сегодня она достигла своей критической точки – идеологии самоубийства. И это – не эпистемологический трагизм, придуманный теологами и философами, а хорошо наблюдаемая и фиксируемая данность. Предчувствие и переживание Апокалипсиса делают очевидной трагедию этического, поскольку высшей ценностью бытия становится не только отдельная человеческая жизнь, а существование самого человечества. Но удивительно, как мало места уделяется данной проблематике практически на всех медийных аренах современности.
Сформулированная в прошлом столетии оценка быстрой и болезненной смены ценностных ориентиров, изменение фундаментальных основ нравственного отношения человека к миру, свершившихся в кризисе культуры, отразилась в стиле мышления практически всего XX века. 1920–1930-е годы ознаменовались констатацией первых итогов кризиса, выразившихся в радикальных трансформациях социальных структур, кардинальном изменении образа мира и ошеломляющих новациях в искусстве. Несколько позже была всесторонне исследована практически вся симптоматика кризиса. В последней четверти XX века постепенно сформировался комплекс представлений о кризисном сознании, ставшем характерной чертой стиля мышления. И даже завершающее XX век интеллектуальное движение постмодернизма, провозглашая «смерть субъекта», косвенно, но все еще вступало в перекличку с темой «смерти культуры».
Но теперь мысль, что европейская культура не однажды оказывалась в состоянии болезненных изменений, в ходе которых происходила ее кардинальная трансформация, стала не просто «общим местом» гуманитарного знания. Последний кризис начали воспринимать как явление, ничем не отличающееся от подобных еще более древних событий. Причем, как и предшествующие ему переходные эпохи – распад Античности и становление Средневековья, преодоление теологической картины мира в Возрождении, утверждение доминант Нового времени, – последний переломный этап рассматривается в современной теории не просто как исчерпывающе пройденный, но теперь уже и несущественный.
Однако это «правило» принято только по умолчанию. Скорее, произошло нечто аналогичное тому, что мы наблюдаем в повседневной жизненной практике. Опасения столетней давности в наступлении Хаоса, подозрения, что средневековая доктрина Апокалипсиса находит свое подтверждение в совершающейся исторической драме, не согласуются с мироощущением современных обществ потребления. Возникла бессознательная уверенность, что в отличие от нас переживавшие его непосредственно просто не успели адаптироваться к специфическим условиям протекания кризиса, заданным ускоряющимися темпами развития науки, промышленности, капиталистического общества в целом. Революции и две мировые войны вообще отодвинули эмоциональное переживание переходного этапа как что-то декадентски рафинированное по сравнению с ужасами этих катастроф. К событиям европейской культуры рубежа XIX–XX веков теперь вполне применимо понятие «забытый кризис».