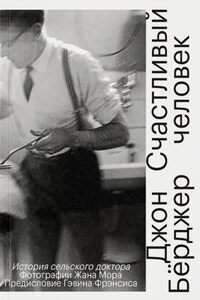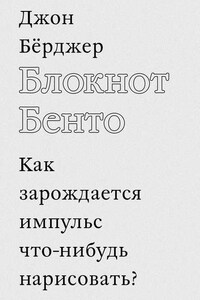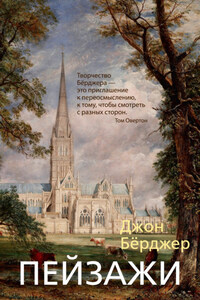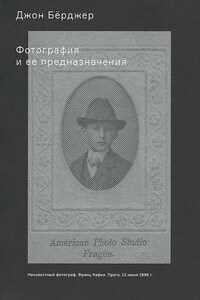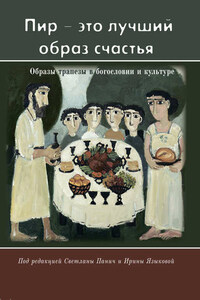Я пишу это в июне. К востоку от Одера, вдоль железной дороги, ведущей в Москву, должно быть, буйствуют дикие люпины, и белые акации, наверное, в полном цвету. В этом пейзаже поезда напоминают корабли, плывущие меж островков в далеком море.
Здесь множество еловых посадок. Деревья выстроились ровными рядами, и у смотрящих из окна возникает странная оптическая иллюзия: просветы между деревьями кажутся им поперечными лучами невидимого маяка.
Возможно, образы моря приходят на ум из-за того, что этот пейзаж так далеко от моря…
По краю посадок то и дело встречаются березы. Из поезда кажется, что их серебристые стволы выкрашены белой краской и обозначают границу.
Посадки сменяются пастбищами и полями – пшеничными, картофельными, но в основном пшеничными. В такой высокой пшенице легко затерялся бы ваш пес. Пшеница – рыже-бурого звериного цвета, но с легкой прозеленью и сиреневым отливом вокруг оболочки зерна.
Небо огромно, и свет разливается по нему так широко, что кажется, будто он, растянувшись, истончился. Кусты шиповника у железнодорожной насыпи похожи на багровые пятна на бледно-зеленом холсте – так велика неопределенность, безграничность и бескрайность равнинного света.
Женщина присматривает за пасущейся коровой. На светло-зеленой полотняной траве лежит парочка. Две лошади тянут повозку по прямой ухабистой дороге. Мужчина склонился над какими-то овощами, раздумывая, не пора ли их сорвать. На дальнем краю пшеничного поля, словно движущийся столб, виднеется велосипедист.
Буг – не такая большая река, как Одер. Но, переправившись через него, вы попадаете в Россию. Люди сидят на траве у края железной дороги, словно это река или канал. Цвета их летней одежды – яркие и прозрачные, как цвета автобусных билетов.
На станции в Белоруссии за зданием вокзала сидит, несомненно, женщина в белом комбинезоне и платке, под который убраны волосы с разгоряченного лица, и продает квас из большой бочкообразной цистерны на колесах. Квас делают из ржаного хлеба, воды и дрожжей, которые ненадолго оставляют бродить. Он цвета мокрого картона. Вкус кваса еще долго чувствуется на нёбе после того, как его выпьешь: вкус хлеба, лета, плоской равнины и утоленной жажды.
В это время года московские дворы придают городу четвертое измерение. Десятки или сотни тысяч дворов. Не похожих на сады и парки.
Две женщины развешивают выстиранное белье и болтают. Вокруг – высокая трава и густая листва деревьев на фоне неба. Земля и пыль под ногами непостижимым образом напоминают о деревне: как земля на вытоптанной тропинке к сельской железнодорожной станции. Женщины одеты по-крестьянски. Развесив корзину белья, одна из них садится на деревянную скамью у дощатого забора и выставляет вперед прямые ноги, как будто едет на санях.
За деревьями высятся здания. На окне висит клетка с птичкой. Окно то и дело заслоняют ноги девочки, качающейся на качелях, которые прячутся в деревьях.
Худой, как спичка, человечек читает, сидя на скамейке. Руки у него как у девушки. Он в очках. В одной руке он держит книгу, другой кладет себе что-то в рот. На скамейке рядом с ним лежит свернутый из газеты кулек с горохом. Человечек вынимает стручок, проводит по его краю ногтем, вставляет в рот, словно крошечную зеленую флейту, откусывает сырые горошины и ест их. По другую сторону от себя он складывает аккуратной горкой пустые стручки.
Когда женщины перестают болтать, можно различить очень слабый, отчетливый и начисто лишенный эха звук быстро перекидываемого мячика для пинг-понга. Неподалеку от качелей стоят два теннисных стола. В глубине, за звуком мячика, слышится неясный гул, который вскоре сливается с тишиной. До одного из самых оживленных перекрестков улицы Горького меньше двухсот ярдов.
* * *
Враги называют его едва ли не бандитом. Нет ничего более далекого от истины, однако, с учетом их предвзятости, такое мнение легко понять. Он приземист, широкоплеч и похож на быка. Его руки, несомненно, очень сильны. Движения кажутся неловкими, потому что он не старается придать им легкость и плавность. Однако достаточно увидеть, как он завязывает шнурки или берет что-то вкусное с блюда, чтобы убедиться в его изяществе и утонченности. Но если видеть в нем только врага, он кажется грубым, дерзким и несговорчивым.
Хуже того: поскольку нельзя не заметить, что он умен, недоброжелатели принимают его ум за коварство. И вновь основанием для этих ложных выводов служит его манера поведения. Он производит впечатление глубоко компульсивного человека, который, тем не менее, замечает всё вокруг. Человека, который осмотрительно, но неуклонно преследует свои цели. Он беспокоен, он постоянно в движении, постоянно начеку. Он мало спит. Когда он бодрствует, то каждые несколько часов внезапно принимает какие-то решения, из-за которых тут же прерывает разговор или дело, которым занят. Может показаться, что он постоянно что-то замышляет. На самом деле эти внезапные смены настроения объясняются тем, что на него обрушивается такое множество идей, что он зачастую вынужден срочно, внезапно что-то предпринять, чтобы ослабить напряжение. Но особенно его врагов раздражает то, что его, похоже, трудно испугать. Не то чтобы он совсем не ведал страха – страх испытывают все. Но в результате определенных событий, которые он постоянно прокручивает в памяти, чтобы они не потускнели и не исказились, он не может забыть, что смотрел в лицо смерти. И поэтому он равнодушен ко многим угрозам.
Эрнст Неизвестный родился в 1925 году. Его фамилия по-русски означает «тот, кого не знают». В первой половине XIX века в России было принято забирать еврейских мальчиков из семьи, крестить в православную веру, давая им новые имена, и отправлять в военные школы и лагеря в отдаленных частях страны, чтобы затем определить на нестроевые должности. Нередко им присваивали нелепые ироничные фамилии: например, Непомнящий, то есть «тот, кто не помнит». Так три поколения назад появилась фамилия Неизвестный.