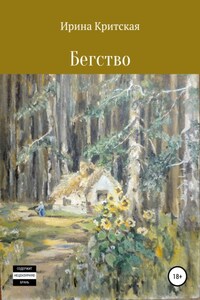-Ты Иван-чай собираешь? Я – да. Полезная травка, многое лечит, я вообще только травами и спасаюсь. Рак у меня. Операцию делали.
Новорождённое лето только вступает в свои права, но солнце уже жарит к часу адово, мир, как на сковородке, плавятся травы и одуряюще пахнет распаренная полынь. Мне тяжело и лениво, я жутко устала на своём огромном огороде с непривычки, такое солнце для меня и благо и испытание. Мне бы уйти в дом, подремать, а потом начинать готовить ужин, двое моих мужиков – муж с отцом, сами не не пошевелятся ни в жизнь, предпочтут голодную смерть кухонной работе, а сосед стоит и стоит, донимает меня разговорами, истории сыпятся одна краше другой.
Он странный этот сосед. Если взять Будулая, уменьшить его в два раза, надеть на него мешковатые старые джинсы, навтыкать в нечесанные седые кудри маленьких колючек (собачек, как мы называли их в детстве) и запустить с голым торсом по узенькой тропинке с задов огородов, по которой он ходит к своей подруге бабе Варе, то получится именно он. Сосед. Алексей. Алеша, как называют его в селе, немного чудноватый, слегка не от мира сего, бывший отличный и знающий агроном и зоотехник в давно почившем совхозе, ныне пенсионер лет семидесяти, одинокий, неприкаянный, но неунывающий.
Я с ним познакомилась, когда он чистил снег у ворот соседки, той самой бабы Вари – пожилой, нелюдимой, почти не выходящей на улицу женщины. Видела я её мельком один раз, хоть мы и прожили здесь почти полгода – она выходила забрать молоко у молочницы. Угрюмая, замотанная в серый, вязаный платок, в цветастом халате, торчащем из под ободранного полушубка, она что-то быстро сказала, сунула деньги и сразу закрыла калитку, явно придавив её чем-то изнутри. Три её маленькие псинки разрывались от лая, а девять котов рядом сидели на завалинке, грелись на не теплом зимнем солнышке и смотрели на меня недобро.
Алексей, поедем обязательно. Мы без вас не найдём куртин, его здесь мало, не то что на севере. Только позовите.
Алеша усмехается, кивает. У нас с ним разница в возрасте, конечно есть, но не так велика, чтобы называть его "дядей", отчество здесь не принято, а "Алешей" у меня не поворачивается язык. Поэтому, я произношу стыдливо-интеллигентское "Алексей". На вы. Получается красиво, но он смущается и очередной, чуть не сорвавшийся матерок прячет в усы.
– Тогда собирайся. Хоть сейчас. Или завтра, с утра. Будем собирать ещё чабрец, хорошая травка. Я тут все овраги, луга и леса пешком исходил. Я все травы тут знаю. Их полно, только ходи. А у вас машина. Давай, не тяни.
…
На следующий день мы, действительно, едем. Огромные, бывше-совхозные поля пустуют, заросли бурьяна уже стали естественным ландшафтом, правда, кое-где попадаются участки с торчащим прошлогодним быльем подсолнуха. Алеша крутит кудрявой головой, сообщает
– Тут раньше у нас на полях свет везде был проведён. Столбы, провода, едешь – светло, как днём. Я даже по ночам участок свой проверял, а хрен его знает, что ночью случится. Ответишь потом по всем правилам.
Я недоверчиво киваю, он разворачивается ко мне, вдруг сообщает резво, горячо, с болью.
– Всё поля были аэрированы. Раньше-то, когда совхоз был. А потом трубы растащили, расплюшили, заборы понаделали. Вороватый народец… Ты, кстати, Ирина, колбасу ешь?
Я колбасу не ем, но однозначно отвечать не стала, вдруг расстроится человек, мало ли что.
– Воооот. Тут раньше наши совхозные стада паслись. Вдоль оврагов. У нас овраги, знаешь, какие? Огоо. Тыща голов баранов только ходило. А коров? Знаешь сколько коров у нас было? Мама не горюй. Земли не видать, одни рога. А колбасы в магазинах не особо было. Мяса не хватало. А сейчас? Ты хоть одно стадо видела?
Я, действительно, не видела ни одного стада, так, единичные коровки в поле зрения попадались, и отрицательно помотала головой.
Он удовлетворённо кхекнул, спрыгнул с нашего Дастера, как цыган с коня, размял ноги.
– Интересно, из чего она, та колбаска? А потом говорят рака полно.
Я согласно покивала, мне на данный момент колбаска была до лампочки, я любовалась потрясающим лугом – чудесным, светлым, по июньски ярким, с нежным ароматом утомленной от солнца травы. Алеша понял и враз переключился.
– Вон, гляди Ирина, видишь кустик, это он и есть. Чабрец. Собирай, он пока не зацвел, в самой поре для чая. Зацветет, ещё раз приедем. Целебный он тогда.
Мы пробыли на лугу не долго, жарища грянула такая, что в машину мы лезли, как в доменную печь. И уже на обратном пути я его спросила про соседку, больно скрытно и странно она живёт, а познакомиться надо, соседи же. Алеша неопределённо махнул рукой в сторону её двора и сообщил мужу.
– Туда меня подвези. К бабке пойду кофий пить. А потом на рыбалку, в ночь.
И, обернувшись ко мне, сказал тихонько.
– Хорошая она женщина, ваша соседка. Исключительная. Трудяга. Вот только болеет все. Восемьдесят, не шутка.
И лицо у него, пока он говорил было таким нежным, глаза такими светящимися, что встреть его где-нибудь в толпе с таким лицом, честно, не узнала бы.
… Мы пили чай с мужем, Алеша не выходил у меня из головы.
– Слушай. А что это за странная дружба? Каждый день, по три раза он ходит к этой старухе? Может он ей родственник какой?
Муж посмотрел на меня хитро, подмигнул.
– Нет, Ирка. Не родственник. Хотя, в какой-то мере… Он её у мужа отбил. Сто лет тому назад…
– Алеша, ах, Алешка… Красивенький какой. Маленький. Давай целоваться, сладкий мой. Ух!!! Яблочко!!!
Три молодухи лет двадцати пяти загнали симпатичного, крепкого, невысокого паренька в угол между полуразваленным прилавком на рыночной площади и беленой известью стеной крытого здания рынка, обступили его, хохоча пощипывали крепкими пальцами, как молодые гусыни, норовили чмокнуть в нос. Самая озорная, соседка Варвара, высокая, стройная, да такая, что в талии можно перервать, если неаккуратно схватить, перекинула тугую темно-каштановую косу на пышную загорелую грудь, зазывно приоткрытую нескромным вырезом цветастого сарафана (пока возилась, тяжёлый пучок из косы, свернутой улиткой развалился, разметав шпильки по серой, горячей от полуденного солнца земле, а теперь поправлять его было некогда, парнишка ускользнет), ухватила Алешку за крепкие плечи, притянула близко, обдав горячим, отдающим сладкой ванилью, дыханием. Она сунула ему в руку размякшую молочную карамельку и крепко сжала его пальцы, притянув враз взмокший мальчишеский кулак к своему крепкому бедру.
А он, заглянув в её карие глазищи, в них провалился, как в омут, начал тонуть, почти теряя сознание.
– Уйди, дура. Не лапай, охальница. Я вот сеструхе скажу, а она твоему мужику обскажет. Посмотрим тогда…