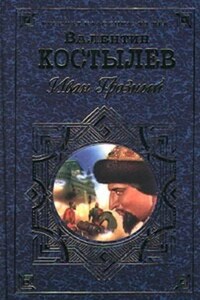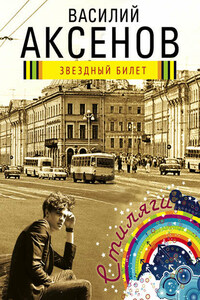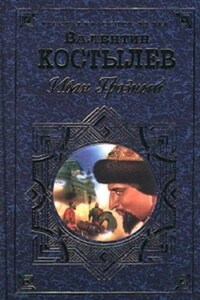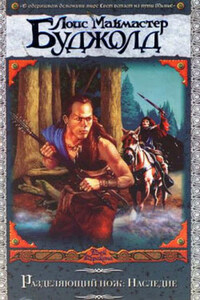I
Звездные ночи, тихие, робкие...
У московских застав караульные всадники чутко прислушиваются к каждому шороху, зорко вглядываясь в темноту. В голове – тревожные мысли.
Война! Король Сигизмунд своих бродяг засылает сманивать из Москвы людей служилых («мол, все одно не победите!») – озлоблять народ против царя... Шныряют они по кабакам, по базарам; в храмы Божии, в монастыри, и туда залезают... втихомолку сеют смуту.
Известно издавна: черт бессилен, а батрак его силен!
Народ неустойчивый уже появился, бегут в Польшу, к ворогам... Дивное дело! Не бедняк бежит от помещичьего ярма, а знатные вельможи, служилые люди... Чего им-то не хватает? Чудно! И куда бегут! К кому!
Простой воин, стрелец, себе того в толк взять не может: как это так? Из своей родной земли в чужую землю убежать, да еще в неприятельскую?..
Но что бы там ни было, стрелец свое дело знает. Попадись ему вельможный беглец либо соглядатай – пощады не жди! Недаром государь-батюшка милостив к стрельцам. Спасибо ему! Да и то сказать: без столбов и забор не стоит. Как царю-то без верных слуг?!
Попробуй-ка, проберись незаметно в Москву!
В одну из таких ночей к московской заставе, хоронясь в оврагах и кустарниках, прокрадывался пришелец с берегов Балтийского моря, датчанин Керстен[1] Роде. Дорогою он много всего наслушался про строгость московских обычаев, узнал и о королевских происках в Московском государстве и об изменах... Попасть в руки сторожей, не добравшись до дворца московского государя, – значит надолго засесть в темницу. Датские купцы, побывавшие в России, уверяли, будто царь благосклонен к иноземцам, особенно к мореходам, но что есть бояре и всякие чиновные люди, которые против того и пускаются на хитрости, чтобы стать между царем и его иноземными гостями. Правда или нет – осторожность не мешает.
Керстен Роде безмерно высок, худ для своего роста. Одет в короткий жупан из невиданного в Москве белого в желтых яблоках меха. Движения его плавно-неторопливы, размашисты, словно не идет он, а плывет, разбивая руками воду.
И вот этот морской бродяга, привыкший к опасностям, вдруг в испуге нырнул в кустарники.
Совсем недалеко от него, будто из камня высеченный, на громадном косматом коне грузный, страшный бородач.
Пришлось поглубже уткнуться в ельник.
Лишь бы не учуяли псы. Они в этой стране чересчур сердиты. Не раз приходилось отбиваться от них дубиною. Не любят чужих людей.
На бугре, рядом с бородачом, появились еще два всадника в больших косматых шапках, толстые, круглые, плечистые. Сколько в них силы и самоуверенности!
«Любуйся, корсар Роде! Вот бы тебе таких молодцов на море! Керстен Роде тогда стал бы королем корсаров! Перед силой корсар всегда готов преклониться. Однако... пока еще рано, даже и ради любопытства, попасть в руки этих загадочных богатырей. Ах, как хочется еще пожить и погрешить на белом свете!»
Впереди – высокий, выпирающий из сугробов вал, а на нем опутанный еловыми ветвями частокол.
Поодаль, за этою преградою, бревенчатые вышки церквей; на их остроконечных шатрах, как и повсюду в этой стране, мирно сияют освещенные луной кресты.
Московиты тоже христиане, а в Европе прославили их язычниками. А впрочем, пират, приговоренный в трех странах к смертной казни, не должен быть разборчивым. Ну что же, если и язычники? В этом ли дело? Мало ли всяких бродяг из западных стран потянулось в Москву! Убытка от того им не было. Возвращаются домой, не раскаиваясь, с толстым брюшком и деньгами. И многие из них, пожив у себя дома, опять бегут в Московию. Что-то их тянет сюда. Нашлись и такие хитрецы, – сами липнут к России, а других пугают, царя изображают каким-то чудовищем, дракону подобным... Теперь уж этому и верить не стали... Он, Керстен Роде, знает, что делает. Лишь бы до царя добраться.
«О Боже! Не причисляй меня прежде времени к лику райских праведников! Помоги смиренному скитальцу своим заступничеством, умудри его благополучно перелезть через этот проклятый вал!»
В нарядных хоромах на берегу оснеженной Неглинки, рядом с уютной церковкою преподобного Сергия, что в Пушкарях, – скрип половиц, тихий, ласковый голос. То хозяйка дома, супруга царского слуги и любимца, Василия Грязного, Феоктиста Ивановна, подымает с постели своих сенных девушек Аксинью и Ольгу. Вскочили, щурясь от огонька свечки, давай неистово чесаться. С чего это матушка Феоктиста Ивановна по дому ни свет ни заря бродит да спящих сенных девок будит?! Уж не приехал ли, спаси Бог, в хмельном виде сам батюшко Василий Григорьевич со своими товарищами, разудалыми молодчиками, – тогда берегись! Беда! Угроза девической чести. Озорники они, Бог их прости!
– Полно, глупые! Чего испужались? – Тихо приговаривая, касается хозяйка своею рукой теплого, гладкого тела то одной, то другой девушки. – Вставайте! Сердечко щемит, милые!.. Соснуть не могу... Чует оно беду, чует!.. Оденьтесь да обуйтесь, проводите меня к вещунье, к тетке Сулоихе... Пожалейте меня одинокую, мужем отринутую!.. Нет ему, чтобы посидеть дома да, как государю в своем доме порядливому, жену доброму делу поучить, постращать ее наедине, наказать, а после того и пожалеть ее, приласкать по-хорошему... Увы, не удостоил меня Господь того счастия... Горюшко-горе, и што поделать... и ума не приложу!
Заспанные, дрожащие от холода, связывая наскоро узлами свои косы, в одних рубахах, заметались Аксинья и Ольга. Накинули на себя стеганые летники и бросились в переднюю горницу, чтобы обрядить в горностаевую шубку свою хозяйку, да и самим одеться потеплее. Не лето – декабрь, и притом сердитый, морозный...
– Полно тебе, наша государыня-матушка, Феоктиста Ивановна! Не убивайся. Стерпится – слюбится. В чистом сердце Бог живет, покорится ему и Василь Григорьич... Личико твое словно яблочко, ручки беленькие, добренькая ты... Бог тебя не оставит!..
Девушки принялись наперебой утешать хозяйку:
– Что уж тут, матушка!.. Время наше лютое, мятежное. В церковь боязно ходить... Народ лихой объявился... Василь Григорьич, батюшко, царское дело справляет... Воров ловит. Ништо, цветик наш, Феоктиста Ивановна, смерть да жена – Богом сужена. Не отступится он от тебя... николи!
Феоктиста Ивановна, слушая девушек, разомлела в слезах:
– Милые вы мои!..
Крепко обняла их, поцеловала по очереди.
Где-то в углу скребется мышь. Свечка озаряет тесовые чисто вымытые стены, железные доспехи на них, бердыши, саблю.
Тихо, перешептываясь, стали прокрадываться на крыльцо.
Кошка прыгнула. Ахнули от страха, прижались к стене. Закрестились. Почудился оборотень. Пригляделись – рыжая Завируха... Видать, мышонка изловила, желтоглазая.
– Ишь ты, дура! Пошла прочь! – толкнула ее ногою Аксинья.