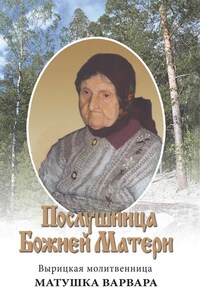Поравнявшись с тропинкой, ведущей к кладбищу, Иван невольно приостановился. «Слава Богу, не зарастает народная тропа. Живущие не забывают своих предков, родных и близких. Упаси Господь превратиться в Иванов-Непомнящих без роду и племени. Помнить, чтить, молиться за них – дело благое и богоугодное. Завтра обязательно надо сходить…», – Иван сделал шаг и опять приостановился, – «Завтра!.. Завтра само собой, а почему бы сейчас не заглянуть. Сколько раз собирался ночью побывать здесь, а так ведь и не собрался».
Он вспомнил, как панически боялись кладбища в детстве. Напуганные всякими небылицами о мертвецах и злых духах, ребятишки даже днем старались обойти его стороной, а ночью и подавно: делали крюк окольной дорогой через небольшую деревушку Боровинку. У страха глаза велики: даже на расстоянии им чудилось там пугающее шевеление, слышались вздохи, стоны, оханье и прочие, леденящие душу звуки.
Иван усмехнулся: «Смешные, наивные дети. Ладно, можно и заглянуть на полчасика». По отлогому склону тропинка привела его к переходу через ручей, добротному дощатому мостику с перилами, что удивило и обрадовало Ивана. Справа была видна бобровая плотина, через которую шумным водопадом переливалась вода, заглушая и пение соловьев, и азартное кваканье лягушек. За ручьем, по деревянным ступенькам, тропинка круто поднималась на высокий уступ; попетляв по отлогому склону, поросшему молодыми сосенками и елочками, она терялась на кладбище за стеной огромных толстенных елей и сосен.
Иван в растерянности остановился – надо было определиться, куда идти. Раньше, когда он заходил на кладбище через центральный вход, все было знакомо и понятно. К тому же верным ориентиром для всех служила красивая златоглавая часовня. Теперь ее не было видно. «Похоже, окончательно разрушилась», – подумал Иван.
Лавируя между оградками и холмиками с крестами, Иван пробирался к центру кладбища. Яркая луна помогала идти легко и свободно. «Сколько же здесь этих холмиков?! – подумал он и невольно замедлил шаг, – еле приметных, заброшенных, с покосившимися и упавшими крестами; ухоженных и свежих все меньше и меньше. И под каждым холмиком человек… Десятки поколений упокоились на этом погосте. За сотни лет тысячи и тысячи земляков со всей округи нашли здесь последнее пристанище. Это они осваивали здешние места, поднимали землю, кормились от нее, застраивали ее и украшали. Как они ее ценили! Каждый клочок этой земли был для них дорог. Теперь даже не верится, что на Большом болоте, на островах, сено заготавливали. Ближе к деревне все было распахано, склон, по которому я только что проходил – тоже. А какой дивный лен выращивали на горе вдоль речки.
А что теперь?.. А теперь, а теперь в нашей жизни канитель. Земля зарастает соснами, елками, березками: как же без них, без родимых, – край-то березовый; и вновь приобретает первозданное одичалое состояние. Правда, огорчает это не всех. Сестра даже радуется: «За грибами теперь далеко ходить не надо».
Ивану же было обидно за предков, стыдно перед ними. Он перекрестился и низко поклонился: «Простите нас, непутевых потомков. Профукали вами нажитое, разбазарили. Все за синей птицей гоняемся. А она хитрющая, ловкая обманщица каждый раз ускользает, оставляя в руках наших лишь жалкие потрепанные перышки. Не живется нам спокойно, не работается. Хотя… Может быть, дело не только в нас и не столько в нас, айв неразумной аграрной политике властей: этак она может народ и без куска хлеба оставить. Да и вообще – нерадостна людская история – постоянные войны, революции, перевороты, захваты… Не было и нет покоя на планете. Постоянно мятется человечество, бурлит».
С невеселыми мыслями Иван двинулся дальше. Теперь он полностью сориентировался на кладбище и шел, не торопясь. А куда спешить? Сюда опозданий нет. Все мы движемся в одном направлении, только одни с Богом в жизнь вечную, другие – в преисподнюю.
Не доходя до центральной дорожки, Иван уперся в ограду. На большой черной плите луна высветила белую надпись: Шахновский Александр Николаевич. Они с Иваном были закадычными друзьями с детства, и нелепая смерть друга под гусеницами трактора долгое время не давала покоя Ивану. Если бы хоть «за други своя». А тут из-за суеты и неопытности молодого напарника. «Здравствуй, брат. Только что думал о нашей запущенной земле. Последним пахарем, Саня, ты здесь был; надо же, целое отделение совхоза на тебе держалось. С тех пор, Саня, ни один плуг не касался наших полей. Забурьянилась земля, мхом позарастала. Вот такие дела, друже. Ты меня прости, если что не так. А не так, много чего было». Иван коснулся рукой холодного мерцающего мрамора: «Прости, Саня:
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь…
Помнишь, мы взахлеб читали есенинскую лирику, упивались словами и образами, точно определяющими Божественную красоту русской природы? Да и не только природы… Мы были молодые, задорные, сильные и яркие; осязаемые образы свиданий с девушками очень даже будоражили наше воображение.
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет…
Нам, бесшабашным, невдомек было, что очаровывались мы верхним слоем его стихов: цветущим, ароматным, с небесной синью и веселым шелестом берез, не пытаясь заглянуть вглубь. Оказывается, Саня, были у Есенина и другие, более глубокие слои. Даже здесь, в этом стихотворении, он в начале говорит, что на душе светло, а в конце:
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.
Как тебе – веселая тоска? С годами у Сережи веселости становилось все меньше и меньше, а щемящей тоски все больше.
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.
О чем он тосковал?.. Можно только догадываться. Может быть, о невозможности исполнения желаний на Земле; а может быть это вечная тоска Адама об утраченном Рае; или о той Любви, без которой человек «звенящая медь»? Лучше апостола Павла о ней никто не сказал. Для меня его слова звучат как гимн: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».