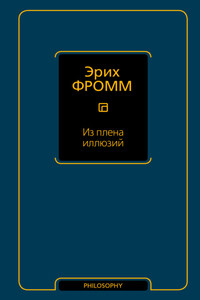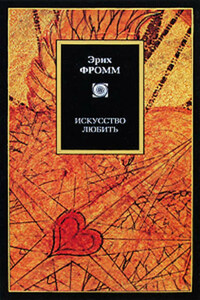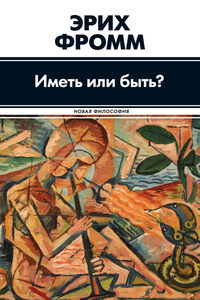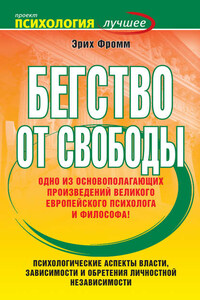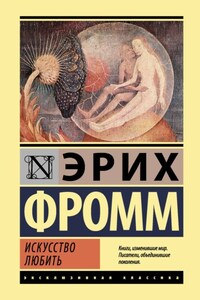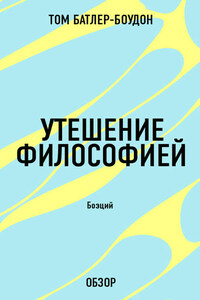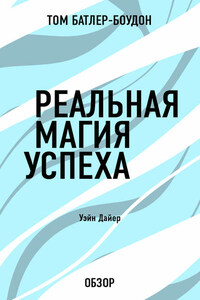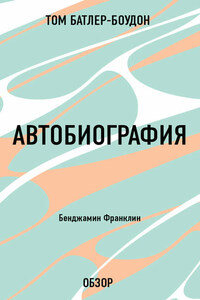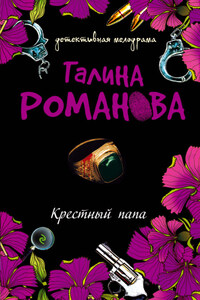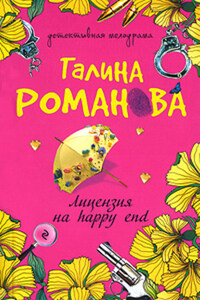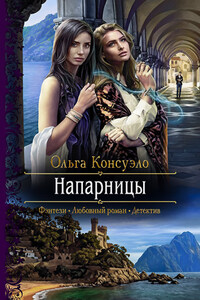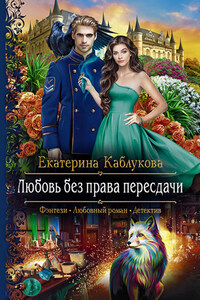I. Несколько эпизодов из моего личного прошлого
Если человек задается вопросом о том, как возник его интерес к тем областям мысли, которым суждено было занимать наиболее важное место на протяжении всей его жизни, ответить ему будет не так-то просто. Может быть, у него была врожденная склонность к некоторым вопросам; может быть, на путь формирования его будущих интересов его привело влияние то ли кого-то из учителей, то ли общепринятых идей, то ли личных переживаний, – кто знает, какой из этих факторов определил ход его жизни? Конечно, если бы кто-то захотел точно определить относительный вес каждого из этих факторов, ответ можно было бы дать только с помощью подробной исторической автобиографии.
Поскольку целью настоящей книги является интеллектуальная автобиография, а вовсе не историческая, я постараюсь выбрать такие переживания отрочества, которые привели меня позже к тому, что я заинтересовался теориями Фрейда и Маркса, а также отношением между ними.
Если я хочу понять, как получилось, что первостепенный интерес для меня приобрел вопрос о том, почему люди поступают именно так, а не иначе, меня, пожалуй, устроило бы предположение, что единственному ребенку в семье достаточно иметь вечно озабоченного и угрюмого отца и склонную к депрессии мать, чтобы у него пробудился интерес к странным, таинственным причинам реакций человека на окружающий мир. До сих пор в памяти жив один случай – должно быть, мне было тогда около 12 лет, – который подтолкнул мои мысли гораздо дальше прежнего и подготовил мой интерес к Фрейду, проявившийся лишь десятилетие спустя.
Вот что за случай. Я знавал тогда одну молодую женщину, друга нашей семьи. Ей было, видимо, лет 25; она была красива, привлекательна, к тому же она была художницей – первая в жизни знакомая мне художница. Помнится, я слышал, что она была помолвлена, но через некоторое время разорвала помолвку. Помнится, она практически неизменно находилась в компании своего овдовевшего отца. Насколько я его помню, он был старым, неинтересным или, лучше сказать, невзрачным; по крайней мере мне так казалось (возможно, мое представление о нем было навеяно ревностью). Однажды я услышал шокирующую новость: ее отец умер, сразу после этого она покончила с собой, оставив завещание, в котором специально оговорила свое желание быть похороненной вместе с отцом.
Я никогда раньше не слышал ни об эдиповом комплексе, ни об инцестуозных привязанностях между дочерью и отцом. Но меня этот случай глубоко задел за живое. Я был очень увлечен этой молодой женщиной; ее непривлекательного отца я невзлюбил; и никогда прежде я не знавал никого, кто покончил бы жизнь самоубийством. Меня пронзила мысль: «Как это возможно?» Как это возможно, чтобы красивая молодая женщина настолько возлюбила своего отца, что предпочла быть похороненной вместе с ним, вместо того, чтобы жить, получая удовольствие от жизни и от занятий живописью?
Ответа у меня, конечно же, не было, но вопрос «как это возможно» засел у меня в голове. И когда я познакомился с учением Фрейда, оно показалось мне ответом на загадочное и пугающее переживание того времени, когда я еще только вступал в пору отрочества.
Мой интерес к идеям Маркса имел совершенно иную подоплеку. Я воспитывался в религиозной еврейской семье, и книги Ветхого Завета волновали и развлекали меня больше, чем любые другие внешние воздействия. Впрочем, далеко не все в Ветхом Завете действовало на меня в равной степени. История покорения иудеями Ханаана вызывала у меня скуку и отвращение; я не находил ничего хорошего в рассказах о Мардохее и Эсфири; не ценил я в то время и Песню Песней. Зато на меня произвели большое впечатление рассказы о непослушании Адама и Евы; о заступничестве Авраама перед Богом ради спасения жителей Содома и Гоморры, о миссии Ионы в Ниневии и многие другие фрагменты Библии. Но больше всего меня растрогали книги пророков Исаии, Амоса, Осии; и не столько своими предостережениями и предсказаниями грядущих несчастий, сколько обещанием «конца времени», когда народы «и перекуют мечи свои на орала, и копия свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать» (Исаия 2; 4), когда все народы станут друзьями и когда «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Исаия 11; 9).
Картина всеобщего мира и гармонии между народами глубоко тронула меня, когда мне было всего лет 12–13. Непосредственную причину того, что идеи мира и интернационализма были мною усвоены еще тогда, надо искать скорее всего в особенностях моего положения: мальчик-еврей в христианском окружении, испытывающий на себе некоторые проявления антисемитизма и, что еще важнее, чувствующий отчужденность и клановую обособленность обеих сторон. Я терпеть не мог клановости и, может быть, именно потому, что испытывал непреодолимое желание вырваться из эмоциональной замкнутости одинокого, хотя и избалованного мальчика. Что могло быть для меня более волнующим и прекрасным, чем пророческое видение всеобщего братства и мира?
Все эти личностные переживания, возможно, не так глубоко и надолго подействовали бы на меня, если бы не событие, определившее мое развитие больше, чем что бы то ни было еще: Первая мировая война. Когда началась война летом 1914 года, я был четырнадцатилетним мальчуганом, для которого наиважнейшим вкладом в личный опыт стали и общая возбужденность от известия о начале войны, и празднование побед, и трагедия смерти солдат, которых я лично знал. Меня не беспокоила тогда проблема войны как таковой; ее бессмысленная бесчеловечность тогда еще не поражала меня. Но вскоре все изменилось, чему поспособствовал опыт общения с моими учителями. Мой учитель латыни, который на протяжении двух лет до войны заявлял на уроках, что его любимым изречением является «хочешь мира – готовься к войне», пришел в восторг, когда разразилась война. Тут-то до меня дошло, что его видимая забота о мире не могла быть истинной. Как это возможно, чтобы человек, который, казалось, всегда беспокоился о сохранении мира, теперь так ликовал по поводу начала войны? С тех пор мне трудно поверить в то, что, вооружаясь, мы способствуем сохранению мира, даже когда этот принцип отстаивают люди, в гораздо большей степени обладающие доброй волей и честностью, чем мой учитель латыни.
Точно так же меня поразила истерия ненависти к англичанам, охватившая в те годы всю Германию. Они вдруг превратились в жалких торгашей, злобных и бессовестных, стремящихся истребить наших простодушных и слишком доверчивых немецких героев. Посреди этой всенародной истерии в моей памяти особняком стоит одно событие, имевшее для меня решающее значение. На занятиях по английскому языку нам задали выучить наизусть Британский национальный гимн. Это задание мы получили накануне летних каникул, когда еще был мир. Когда же возобновились занятия, мы, мальчики, – частично из озорства, частично под влиянием общего настроения ненависти к Англии – заявили учителю, что отказываемся учить национальный гимн нашего нынешнего злейшего врага. До сих пор вижу, как он, стоя перед классом, отвечает на наши протесты иронической улыбкой и спокойно говорит: «Не морочьте себе голову, до сих пор Англия не проиграла еще ни одной войны». То был голос здравомыслия и реализма посреди безумной ненависти, и этот голос принадлежал уважаемому учителю, которым я восхищался! Одно лишь это высказывание в сочетании с тем, как спокойно и рассудительно оно было произнесено, явилось для меня лучом света, прорвавшимся сквозь ставшую привычной оголтелую ненависть и национальное самовосхваление. То был прорыв, заставивший меня с удивлением подумать: «Как это возможно?»