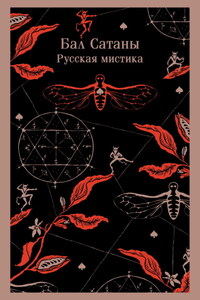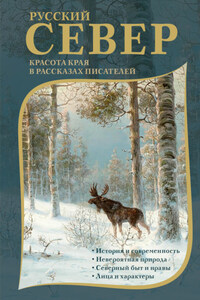Глубокая зимняя ночь. Синий снег. Черные столетние ели, в белых лапчатых охабках. Я еду на извощике через гатчинский парк, от балтийского вокзала до варшавского (обычная провинциальная прогулка). Узкая дорожка, давно накатанная, блестит полированной сталью. Сладок и крепок морозный воздух.
Старая серая, в коричневой гречке, кобыла бежит непринужденной собачьей рысью. Извощик распустил возжи. По всему вижу, что ему хочется поговорить по душам. Изредка замахнется кнутом на лошадь, но не ударит, а лошадь в ответ рассеянно хлестнет хвостом.
Старый, древний быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно унизительное словечко для иных писателей – «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов – почему в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в общей жизни?
Да. Я знаю с безошибочной точностью, что сейчас произойдет. Мы подъедем к варшавскому вокзалу. Я спрошу извощика:
– Сколько?
Он непременно ответит:
– Чай, не обидите, Александр Иванович. Тогда я спрошу:
– Тебе выслать псковский бутерброд?
Он ответит со знакомой мне хитрой конфузливостью:
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru