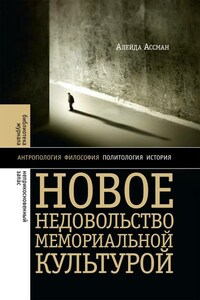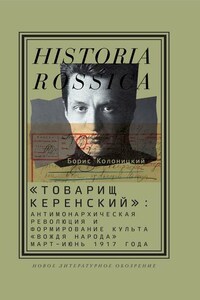ОТЦЫ КЕНТАВРОВ И КЛИО IN PARTIBUS INFIDELIUM
И. М. Савельева, П. В. Соколов
Просвещенный читатель, без сомнения, сразу же угадает в заголовке нашего введения отсылку к хрестоматийно известному высказыванию Фридриха Ницше из его письма к Эрвину Роде 1870 г.: «Наука, искусство и философия столь тесно переплелись во мне, что мне в любом случае придется однажды родить кентавра»1. Этого кентавра, при рождении нареченного «Рождением трагедии из духа музыки», а впоследствии, в пароксизме самокритики, переименованного в «Эллинство и пессимизм», ждал прием, уготованный целому ряду памятников гуманитарной мысли, история рецепции которых в ученом сообществе являет собою, по знаменитому выражению М. М. Бахтина, «стенограмму незавершенного и незавершимого спора»2. С самого момента появления на свет над ними тяготеет обвинение в преступлении перед фактической истиной, в непростительной μετάβασις εἰς ἄλλο γένος – философской интервенции в поле предметных наук. Таковы, если привести здесь только самые известные примеры, «Новая наука об общей природе наций» Джамбаттисты Вико, «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» М. М. Бахтина. Статус всех этих текстов, принадлежащих совершенно разным временам и авторам, амбивалентен: с одной стороны, их положение в каноне гуманитарных и социальных наук неоспоримо, с другой – они регулярно подвергаются попыткам фальсификации, в попперовском смысле этого термина, со стороны тех «позитивных», «специальных» наук, на территорию которых они заступают и материалом которых пользуются – истории, филологии, социологии, экономики, демографии и других. Уже «Новая наука» Джамбаттисты Вико у первого своего, пусть анонимного и, скорее всего, имевшего к неаполитанцу личные счеты рецензента создала впечатление «вымысла» (figmentum), обязанного своим возникновением скорее остроумию (ingenium) автора, чем его верностью истине (veritas)3. Полемики вокруг этих текстов подобны Гераклитову огню, временами возгорающемуся и временами угасающему, но все же вечному: так, первые критические отзывы на «Протестантскую этику» М. Вебера, принадлежавшие перу К. Фишера и Ф. Рахфаля, вышли в свет, соответственно, в 1907 и 1909 гг.,4, и, хотя сам рецензируемый автор надеялся закрыть полемику своим «антикритическим заключительным словом» еще в 1910 г.5, она, как читатель может убедиться из нашей книги, продолжается до наших дней и, дерзнем предположить, продлится usque ad ultimum judicium – до Страшного суда6. Неистовая полемика, спровоцированная появлением «Рождения трагедии» в цеху классических филологов, «Nietzsche-Wilamowitz Kontroverse», слишком хорошо известна, чтобы специально напоминать о ней читателю7. То же относится и к книге М. М. Бахтина о Рабле: первая же рецензия на нее со стороны профессионального историка-ренессансиста, Фрэнсис Йейтс, завершалась пожеланием автору, которого английская исследовательница причислила к русской формальной школе, «лучше оставаться последовательно антиисторическим приверженцем абстрактной науки о знаках», чем вторгаться в область исторических штудий о Рабле, коих он себе совершенно не представляет8. Гневная инвектива М. Л. Гаспарова в адрес эгоцентрического «сочинителя небывалой литературы», философа в овечьей шкуре, основана на той же идее: М. М. Бахтин трактует «теоретический конструкт как исторический факт», смешивает, en bon philosophe, друг с другом сущее и должное и позволяет себе изъясняться «вызывающе неточным» языком9. Попытку исчерпывающего доказательства того, что «Тезис Вебера» обязан своим возникновением и неувядающей популярностью «экстраординарному социологическому воображению» его творца и представляет собой («к сожалению») «научный миф», читатель может найти на страницах нашей книги10.
Положение историко-фактического материала («истин факта») в названных текстах существенно иное, чем в «позитивистской» историографии, у «historiens de M. Thiers»11, однако оно и не таково же, как у творцов «философии истории». В чем причина этой «утопичности»? Виной ли тому взаимная непереводимость, «неконвертируемость» дисциплинарных языков или, быть может, некое особое качество этих текстов, одновременно провоцирующее и делающее невозможной их окончательную фальсификацию? Дисциплинарная аффилиация всех этих текстов различна: если Вико возводит грандиозное здание своей «Новой науки» на фундаменте «филологии в широком смысле», то есть, по Э. Ауэрбаху, синтеза филологии, истории и права, М. М. Бахтин – на фундаменте литературоведения, то автор «Протестантской этики» реконструирует «индивидуальный тип» рационального капитализма на эмпирическом базисе экономической социологии и истории богословия. Или, быть может, дело в особой «нечувствительности», ἀναισθησία, как называл это Эрвин Роде, специфическом ремесленно-этическом дефекте специальных наук, не позволяющих им увидеть то, что выходит за рамки их дисциплинарной оптики? Характерна особая «ироническая» позиция названных авторов по отношению к «эксплуатируемым» ими дисциплинам: с уверенностью, которая дает основание их критикам для обвинений в гибризме, они притязают на то, чтобы понимать сущность «экспроприируемых» ими наук лучше, чем цеховые ученые – верные стражи их границ и хранители алтарей12. Полемика социологов или экономистов с Вебером, филологов – с Ницше или Бахтиным существенно отличается от «внутрицеховой» полемики прежде всего тем, что в этих спорах под вопрос ставится как теоретическое, так и жизненно-практическое оправдание самой дисциплины, ее отношение как к «миру науки», так и к «миру жизни»13. Именно поэтому такие полемики всегда происходят в лиминальной зоне14, они всегда представляют собой «диалог на пороге», Schwellendialog15. Поэтому же в них теоретические аргументы всегда смешиваются с практическими. Чтобы ответить, скажем, Ницше, филолог должен «выйти из себя», за границы своего «возможного опыта», чтобы со все возрастающим раздражением чувствовать, как доселе верно служивший ему «стальной» меч критического метода превращается в «свинцовое оружие» риторики16. С подкупающей искренностью и отличавшей его страстностью это ощущение выразил Виламовиц в ответе Эрвину Роде:
Мерзко. Да и любой спор, спор о мнениях, пусть бы даже и о самых принципиальных, – не остается ли он лишь на поверхности, не затрагивая самых важных различий между филологами будущего и мною? И разве в бой с ними я вступил для того, чтобы исправить ложное разумение, грубые заблуждения и покарать их за филологические грехи? Разве не