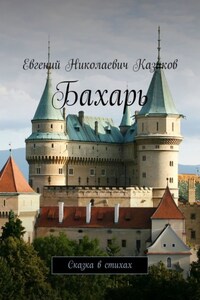Говорят, когда паук кладет передние лапки на паутину, чуткое ухо способно уловить тончайший звон невесомой струны. Еще говорят, что, выплетая серебряный круг, восьминогий ткач подобен оркестру… увы, немногие услышат аккорд, и еще меньше тех, кто поймет суть мелодии, свяжет воедино узор нитей и узор звуков… говорят, когда прерывается нить и паук замирает, и трель замирает, и только отзвук, тончайшее эхо: все, все кончилось…
Вот так тихо было в Загроште в то памятное утро.
Последний звук оборвал реальность, как истлевшую бумагу. Сжег мир, бросил под ноги обгорелым комком. Дряблые пальцы старика копошились в воздухе: хотели ухватить хоть толику чего-то настоящего. Ноги не держали старосту, плясали отходняк с вывертами: хэй, шапошник, много ль наворовал?
Староста знал: отвечать придется.
Прямо сейчас.
Ангелы мести, подумал пролен Снаух. Мысль горчайшим капустным соком хлынула откуда-то из-под желудка, охватила голову огненными листьями. Кочерыжка в огне… Не надо было вчера столько… Вот, вот они – смотрят. Почему – смотрят? Что надо? Деньги? Идите. Все в доме. Идите, берите все. Жену? сына? Меня? Меня – на кол, на виселицу, под топор? – пусть. Не надо – смотреть. Не надо – так…
Больно было пролену Снауху.
Белое, выгоревшее солнце вставало над деревней. Скупо мазало лица: пролен Снаух, староста. Гретта Тьюс, молочница, мать шестерых детей. Свайт Маах, забулдыга высочайшего разлива, косарь за пятерых, глотка – на всю Загрошту хватит. Хент Вас Дерран, кузнец и скобарь, всего помаленьку, руки небесами целованы. Гес Форра, пекарь. Свистун, его подмастерье…
Они стояли и смотрели – на него, точнее, вглубь него.
Неправильно, хлынуло холодом из груди Снауха. Неправильно, все неправильно. Не могут они, жалкие твари, замедяшники, так – говорить. Так – смотреть. Нельзя, невозможно, не…
И медленно гасли блики солнца – первые перья облаков рванулись ввысь – на лице Крюка Воста, по долгу службы зашвырнутого в забытую богами дыру. Плясали губы деревенского знахаря – в такт коленям старосты. И было непонятно: откуда взялось это, и почему его столько, и какого Пятого Загрошта все еще существует в этом кошмарном вихре энергий, и сколько мгновений еще отпущено – кому? Ему, Восту? Загроште? Стране?
Миру?
Ледяная тень прочертила деревню – разрезала пополам.
Солнце скрылось: больше не было ничего интересного.
Вост сделал шаг назад. Споткнулся о камень.
Повернулся и стремглав кинулся прочь.
Стоял густой, сладкий, жаркий, как кремовый торт, летний вечер. Воздух сгустился настолько, что редким прохожим, рискнувшим выбраться из прохладных каменных (и не столь прохладных деревянных) норок, приходилось чуть ли не руками загребать это липкое великолепие, продираясь сквозь сумрачное марево. На углу аллеи Темного Пряника унылый лоточник с тоской взирал на опустевшую тележку: весь доход за сегодняшний день утонул в этом проклятом лимонаде, который, хочешь, не хочешь, а пьешь: жара, озерника ей под хвост… Идти домой старому Куцеку не хотелось совершенно: громоздкая тележка, изделие мастерской «Черный Серп», явно клепалось хвостом Пятого: ручки отвалились на второй день, через неделю кобылка захромала на левое переднее колесо, а сейчас, того гляди, на части развалится. И вот эту рухлядь придется тащить до самого дома – а путь-то неблизкий, а дорога в горку, это с утра хорошо, да и то в оба глаза следить надо: неровен час, камень под колесо – лети, драгоценный лимонад, на обочину!
Не-ет, нет уж. Домой? Конечно, домой, только не сейчас. По такой духоте, с тележкой, с больным сердцем… Нет, пусть жара схлынет. Оно, конечно, к вечеру и «москит» запрыгает по подворотням – но кому нужен бедный старик… способный весьма недурно погладить по затылку верной тростью? Хорошая трость, весомая. Значительная, как сказал бы старый Метц, окажись он здесь в эту пору – но куда ему, наверняка надирается «репейником» у Ганса Орешка. Пусть его. Главное – трость при себе, тележка подмышкой, ворон не считать, за подозрительными тенями следить вполглаза… вот, кстати, и первый.
Означенная тень скользнула в проулок Пяти Желудков, чем удивила Куцека до чрезвычайности. Проулок вел на площадь Хитта, куда, в общем-то, мелкой (да и крупной) шушере вход был заказан. А в том, что незнакомец – шушера, Куцек был уверен. Кто еще станет носить по такой жарище мышастый плащ с капюшоном, отороченным тонкой полоской меха? Разве что сумасшедший. Но у безумцев – старик знал это наверняка – не бывает глаз, сияющих в мареве сумрака, как праздничные сполохи. Ох, задумал что-то негодяй…
– Быть беде, – крякнул вслух Куцек, ожесточенно роясь за пазухой. – Быть беде, – задумчиво повторил он, извлекая на свет бутылочку с синеватой жидкостью. Вытащил пробку, понюхал, покачал головой… и запустил в одинокую курицу, невесть как оказавшуюся на окраине рынка.
– Беда будет, – в третий раз сказал старик, берясь за тележку и покрепче охватывая окованную бронзой трость. – А и демоны с ним. Главное – до дома добраться.
И совсем уже смеркалось, когда тень в плаще и капюшоне, изрядно задержавшись в невзрачной лавчонке без вывески, оказалась под дверью Зеленой Башни, благополучно миновав два кордона стражи и введя в состояние каталепсии систему охранных рун в центральной арке.
– Хм-м, – тихонько пробурчала тень. – Ну, и что мне попробовать на этот раз? «Черная агава»? Быстро и скучно, не то. «Кречетка» тут все поломает, он мне потом шею свернет. Аккуратнее надо. Гм… а если…