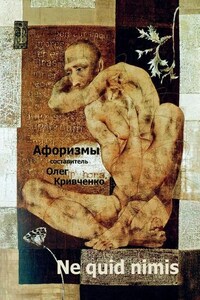Глядя из 90-х…
(Статья опубликована в «Музыкальная академия» 1993, №3)
Предлагаемый ниже текст не является, строго говоря, музыковедческим, хотя посвящен творчеству композитора и написан человеком с дипломом музыковеда. Более того, автор текста, с огромным уважением относящийся к требованию научной объективности, в данном случае к таковой не стремился. И дело тут вовсе не в том, что давнишние дружеские отношения с композитором (в 1965 году мы оба поступили в Музыкальное училище при Московской консерватории) «мешают» анализировать музыку и критически ее оценивать. Просто размышления о творчестве Е. Подгайца, которыми я хотел бы здесь поделиться, вызваны особыми, в известной мере субъективными причинами. Мы – ровесники, люди одного поколения. Когда входили в юность и далее во взрослую жизнь, дышали воздухом одного, особого времени – 60-х годов. Сейчас время иное, и дух иной. Доказывать это излишне. Вопрос в другом – насколько духовно совместимы эти два разных времени. Действительно ли ценности 60-х неприемлемы в 90-х или это лишь видимость, возникающая на внешних планах, тогда как по сути мы в значительной мере пожинаем теперь то, что посеяно было еще тогда?
Может быть, это и странная задача – угадать, распалась ли связь времен, вслушиваясь в звуки музыки. Что ж, ситуация, в которой мы находимся, и сама по себе достаточно странна. И все же…
Есть композиторы, обладающие обостренным чувством времени. Для них музыка – искусство временное не только в том привычном смысле, что оно разворачивается во времени. Последнее для них – важнейший предмет художественного постижения, категория времени – категория не столько формы, сколько содержания, и характеризуется оно не только количественно, но и качественно. Именно таким композитором является Е. Подгайц.
Если принять за истину, что счастливые часов (то бишь времени) не наблюдают, то жизнь нашу тогдашнюю счастливой назвать нельзя. Радостной – можно. Доминирую мироощущение было буквально пронизано чувством времени, и это чувство имело позитивную окраску. Преобладающая ориентация – обращенность в будущее – имела характер радостного ожидания. В отношении к прошлому главным, пожалуй, было чувство облегчения. То есть связь времен и тогда распадалась, но это осознавалось как благо. То, что вчера было запрещено, невозможно или трудно, сегодня становилось разрешенным, возможным, более достижимым. Время оказалось фактором свободы, реальной действующей силой, чем-то почти материальным, почти осязаемым. Мы гладили и похлопывали время по мощной спине, воспринимая его как силу, работающую на нас, как Бога, который с нами заодно. Бог оказался языческим, требующим жертвоприношений, но об этом тогда как-то не думалось.
В соответствии с этим выстраивалась и иерархия ценностей. Развился довольно сильный культ современного, причем современным было то, что как бы проступало, «просвечивало» из будущего. Именно будущее как сверхсовременное приобретало сверхценное значение. С логической необходимостью из этого вытекали культ прогресса (не в последнюю очередь научно-технического и всего, что с ним как-то ассоциировалось), и культ молодости, молодежи и всего молодежного, и культ новизны. Причем требовалось, чтобы новое не только отличалось от старого, но и отрицало его.
Такая установка заставляла воспринимать будущее как неким образом уже существующее, уже готовое, но еще не пришедшее или не достигнутое. Оптимистичное в целом, это мироощущение заключало в себе элемент пассивности, ибо завтрашний день был уже предзадан и как бы обещан. Единственное, что можно было сделать для его приближения, – «прибавить шагу». Это не снижало, а, напротив, усиливало момент неизвестности, неожиданности, готовности к сюрпризам, ибо время было дорогой, по которой мы шли впервые.
Пронизанность временем была общей характеристикой мировосприятия. Затронула она и такие высшие ценности, как истина, добро и красота. Человек современный оказывался (или казался) и обладателем большей истины, чем человек прошлого, а человек завтрашний, как потенциально еще более современный, – тем более. Добро и справедливость в конце концов торжествуют. Со временем является любая сущность, и содержание обретает адекватную форму, а значит, время становится и главным ваятелем красоты. Таким образом, время становилось и мерой всех вещей, и «самой действительной» стороной действительности. Подобный абсолютизм оборачивался релятивизмом, так как завтра может выясниться, что то, что казалось истиной, таковой вовсе не является. Это касается всего. Отсюда постоянная готовность к неожиданному, парадоксальному, выходящему за пределы границ сегодняшнего. Отсюда и та особая интонация, и та едва заметная улыбка, с которыми мы утверждали или отрицали что-либо. В этом было что-то заговорщическое. Мы как бы давали понять друг другу, что знаем нечто большее чем говорим, а именно то, что все может не просто обернуться своей противоположностью, но и явиться в совершенно неожиданном значении.
Назовем обрисованную особенность мировосприятия хрональностью. Могла ли эта особенность не повлиять на музыкальное творчество, да и на весь интонационный процесс? Вопрос риторический. Напомним, что именно тогда начал пробивать себе дорогу отечественный музыкальный авангард, который, правда, не стал достаточно массовым феноменом. В массовой же музыкальной культуре хрональность мироощущения проявилась в той мере, в какой она стала чертой массового сознания. Прежде всего это относится к песне.
И даже нарождающееся фольклорное движение, знаменовавшее собой явный поворот интереса к прошлому, традиции, истории, несло в себе нечто весьма современное, если не авангардное.
Творчество Е. Подгайца как раз отличается значительной открытостью всему современному интонационному процессу, в том числе массовому. И это – органическое качество, принципиальная установка его искусства. С первых шагов своего композиторского пути он заявил о себе как человек современный именно в шестидесятническом смысле этого слова, то есть современный не формально, а содержательно, конкретно, через обращенность к полноте сегодняшнего дня и погруженность в настоящее. И, соответственно, с самого начала обнаружила себя в его творчестве та хрональность, о которой говорилось выше.
Острое чувство времени – фактор, действующий на разных направлениях. Это «воздух эпохи», в которой живешь ты сам и твои современники. Это мощная объединяющая сила, заставляющая ощутить внутреннее единство всего, что в это время входит, его определяет, характеризует. Это постижение самой музыкальной плоти, живой, движущейся, пульсирующей, заставляющее с особым вниманием относится ко всем временным аспектам процесса интонирования – ритму, метру, темпу, агогике, форме. Наконец, это чувство времени как одной из основ (едва ли не важнейшей) эмоционально-образного стоя музыки. Острота такого чувства сообщает этому строю особую пластичность, почти зримость, с одной стороны, и значительный психологизм – с другой.