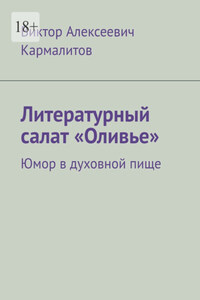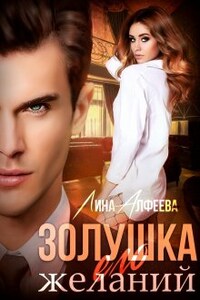Космонавт
Ничего не предвещало беды: всё окружение вещей стоящих, лежащих, развалившихся и подвыподвёртывающих из-под своих вывертов источало безмятежность бардака сознания обитающего венца эволюции как природы, так и этой комнаты, откуда венец не выходил уже 3 часа, пытаясь кавардаком идей навести суету мыслительного процесса, чтобы извилины стали волнами, родившими цунами, способное Везувием выпрыснуться из ушей. Венца, или же просто Вениамина Вениаминовича Мамалыгина, тревожило необузданное желание устроить что-нибудь фейервечное, что-нибудь вот такое этакое, из чего бы затем люди складывали легенды, передающиеся из уст в уста, из устов в руки, из рук – на бумагу, из бумаги в ту… а, впрочем, остановим своё перечисление на хорошей ноте в до-мажоре, пока нам не открылась её минорная сущность, произошедшая в душе главного героя рассказа – Вениамина Вениаминовича.
Великий разумитель наблюдал скопище хлама, некогда бывшем его вещами, и источение трансцендентности вещей-в-себе стекло от собрания предметов прямо в голову ничего не знавшего ни о Канте, ни о трансцендентности, ни об уборке человеку. Идея! Мысль! Разумысль! Веня загорелся взглядом и прожёг бы дыру в стене и устроил бы настоящий пожар, но, к счастию, одного взгляда для пожара было мало, однако огнила и пламенела душа образчика затворителя от отворённых миров, ведь образ жизни Вени мало чем отличался от образа жизни домашнего хомячка: хорошо поесть, хорошо поспать, хорошо побегать ночью в колесе (наверное, это было единственное отличие). Веня-факел, Веня-петарда, Веня-хлопушка (в обыденной жизни хлопки имели обыкновение выходить у Вени не только с ладоней) топотыжился по позволяемому пространству (его было мало) и вместе с собой он топотужил нечто у себя на уме (его было мало).