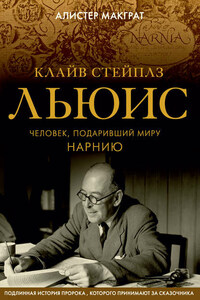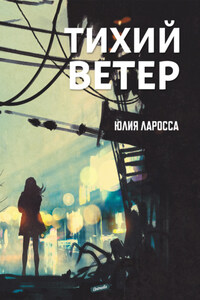Большинство из нас прекрасно знает, как замирает сердце в восхищении красотой и величием природы. Помню, как в конце семидесятых мне пришлось проехать по всему Ирану. Я ехал ночным автобусом через обширную пустыню между Ширазом и Керманом, и недужный двигатель наконец совсем заглох. Пока водитель его чинил, мы вышли на воздух. Мне никогда в жизни не доводилось видеть таких звезд, как в ту ночь – блистательных в своей торжественной неподвижности на темном безмолвном просторе. Словами не выразить, какое неодолимое благоговение охватило меня в ту ночь – восхищение, изумление и любопытство. Когда я вспоминаю ту поездку по пустыне, у меня до сих пор бегут мурашки по коже от восторга, хотя прошло уже очень много лет.
Восторженное изумление – путь к пониманию
Для некоторых это ощущение чуда, которое Альберт Эйнштейн называл «восторженным изумлением»[1], и есть конечная цель. Такой точки зрения придерживались многие романтические поэты. Великий немецкий романист и поэт Гете на склоне лет заявил, что удивление и восхищение для него – главное в жизни: достигнув ощущения чуда, не нужно больше ничего искать, не нужно идти ни дальше, ни глубже, надо наслаждаться самим этим чувством как оно есть[2]. Но для многих из нас это не главное, не конец пути, каким бы приятным ни было подобное чувство – это лишь отправная точка, начало пути исследований и открытий.
Это ощущение чуда было знакомо и великому греческому философу Аристотелю. Для него это был призыв к исследованию, к изучению нового, чувство, которое расширяет горизонты, углубляет понимание и открывает глаза[3]. Как сказал когда-то великий средневековый философ Фома Аквинский[4], это удивление порождает desiderium sciendi – «страстное желание узнать», а исполнение этого страстного желания приносит не только понимание, но и радость.
Этот путь открытий требует и воображения, и логики и ведет не в новые места, а к новому способу смотреть на вещи. На нем нас ждут два приобретения. Во-первых, это наука – одно из самых значительных достижений человечества, приносящее больше всего удовлетворения. В детстве я хотел изучать медицину. В этом был смысл. В конце концов, мой отец был врачом, а мать – медсестрой. Когда я поделился своими карьерными планами с двоюродным дедом, который заведовал отделением общей патологии в одной из ведущих клинических больниц Ирландии, он подарил мне старый микроскоп. Оказалось, что это врата в новый мир. Я принялся увлеченно изучать мелкие растения и клетки, которые обнаружил в капле воды из лужи на предметном стекле, и во мне пробудилась любовь к природе, которая ничуть не угасла и по сей день. Кроме того, я пришел к убеждению, что хочу знать и понимать природу. И решил стать не врачом, а ученым.
Мне не пришлось пожалеть об этом решении. С пятнадцати лет я сосредоточился на химии, физике и математике. Получив стипендию в Оксфорде по специальности «химия», я стал специализироваться по квантовой теории. Диссертацию я написал там же, в Оксфорде, на основании исследований, которые вел в лабораториях профессора сэра Джорджа Радда, где я разрабатывал новые методы изучения сложных биологических систем. А тот старый латунный микроскоп так и стоит на моем рабочем столе, напоминая о своей судьбоносной роли в моей жизни.
Но хотя я с ранних лет любил науку, меня никогда не покидало чувство, что в ней чего-то недостает. Она помогает нам понять, как что устроено, как работает тот или иной механизм. Но что все это значит? Наука дала мне исчерпывающий ответ на вопрос, откуда я взялся в этом мире. Однако она не могла ответить на другой, более важный вопрос: зачем я здесь? Какова цель жизни?
Наука прекрасно умеет ставить вопросы. На одни можно ответить сразу же, на другие – только в будущем, когда будет достигнут определенный научно-технический прогресс, на третьи, возможно, мы так и не сможем ответить: сэр Питер Медавар (1915–1987), которому я стремлюсь подражать как ученый, называл их «вопросами, на которые наука ответить не может и не сможет ни при каких мыслимых достижениях научно-технического прогресса»[5]. Медавар имел в виду то, что философ Карл Поппер называл «последними вопросами бытия» – например, смысл жизни. Так что же, если мы признаем, что эти вопросы существуют, и займемся ответами на них, то отринем науку? Нет. Мы просто с уважением отнесемся к ее границам и не станем силой превращать ее из науки во что-то иное.
Почему нам не уйти от последних вопросов бытия
Разобраться, что к чему, попытался испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955). Ученые тоже люди. Если мы как люди хотим жить полной жизнью, нельзя ограничиваться однобокими представлениями о реальности, которые обеспечивает наука. Нам нужна «общая картина», «объединенная идея Вселенной». В юности я понимал, что нужен какой-то «обобщенный нарратив», обогащенная версия реальности, в которой слились бы воедино понимание и смысл. Найти его я не сумел. Тогда я решил, что то, что ускользало от меня, попросту иллюзорно. Однако сама мысль об этом не давала покоя ни разуму, ни воображению. Наука чудесно умеет объяснять, но не смогла удовлетворить более глубокие стремления человечества, ответить на более глубокие вопросы.