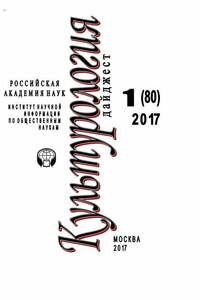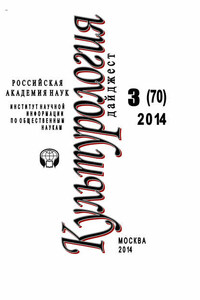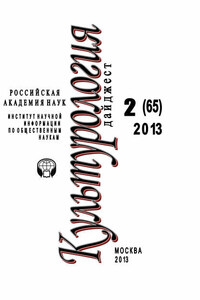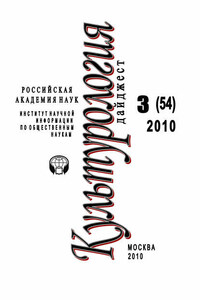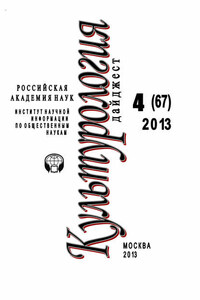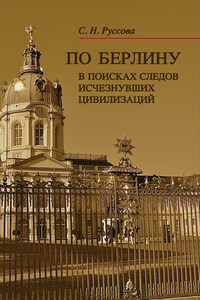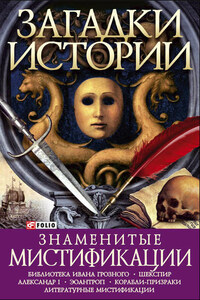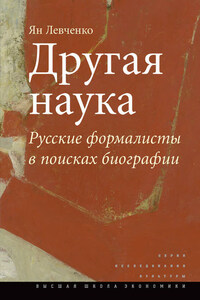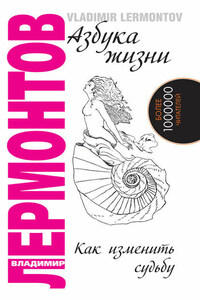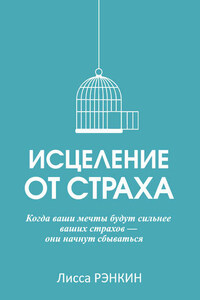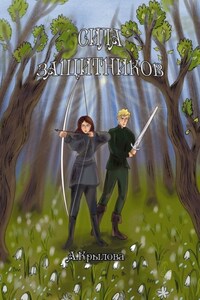Три травмы (К герменевтике советского опыта)1
Аннотация. В статье анализируются три «травмы», две советские и одна постсоветская, последствия которых сказываются в современной духовно-идеологической и научно-гуманитарной ситуации. Первая травма – выпадение из современной философии исторического опыта и отсутствие гуманитарной эпистемологии как следствие изоляции от смены парадигм в «буржуазной» философии ХХ в. Вторая травма – духовно-исторические и идеологические последствия литературоцентристской «филологической» революции наших 1920‐х годов, связанной с дезориентацией интеллигенции и последующим перерождением «революционной науки» в «нормальный» позитивизм советского и постсоветского образца. Третья травма, уже в новом столетии, «наложилась» на первые две: это – исчерпание и перерождение социокультурных метаимперативов (идеалов) Нового времени («свобода», «образование», «культура», «личность», «светлое будущее» и т.д.). Но этот европейский и русский тупик обнаружил скрытые прежде основания совершившихся изменений и позволяет превратить «травмы» в позитивные вопросы и проблемы философии и наук исторического опыта.
Ключевые слова: затекст; философская герменевтика; социально-исторический опыт; историческая философия; культура; образование; мир науки; мир жизни; своевременный разговор; смысл; способ мышления; формализм; постмодерн; философско-гуманитарная парадигма; гуманитарно-филологическое мышление; литературоцентризм; реальная история, крах интеллигенции; смерть автора; крах идеи образования; духовно-идеологическая реальность; глобальная приватизация ценностей; конец разговора.
Советские «травмы», напоминающие о себе в постсоветской ситуации2, – свидетельство того, что в историческом опыте нет абсолютных разрывов, полного и окончательного рассечения исторического «тела смысла». Ведь понятие «травмы» как в медицинском, так и в духовно-историческом значении слова предполагает не только то, что «было» (когда‐то случилось), но также следствия (последствия) случившегося в настоящем. В историческом опыте, как и в науках исторического опыта (чаще называемых «гуманитарными»), «травма» – феномен одновременно памяти и беспамятства, боли и анестезии; настолько глубокими, драматичными и комичными могут оказаться последствия травм. В культурологическом отношении «советская травма» – метафора, но не только: она указывает на онтологически-событийный затекст, который удостоверяет, так сказать, presentperfect современности. С точки зрения современной философской герменевтики травма исторического опыта – феномен так называемой «истории воздействий», или «действующей истории» (Wirkungs-geschichte), т.е. такого прошлого, которое действует в настоящем, размыкая мнимую автономию современности и современников, мнимую самодостаточность персонального и общественного сознания.
Травматология исторического опыта в науках исторического опыта и в философии – под этим углом зрения я попытаюсь поставить вопрос о «советской травме». Речь пойдет о трех действенно-исторических и травматических событиях в еще живом теле современности – двух советских и одной постсоветской – в их онтологически-событийной взаимосвязи, на стыках и пересечениях философии, филологии и исторического сознания.
1
Первая травма относится не к той или иной специальной научной дисциплине, но скорее к донаучному опыту, «за текстом», а именно к решающему потрясению и рассечению оснований непрерывности российской духовно-идеологической и научной культуры в прошлом столетии. Эти первичные, бытийно-исторические основания опыта так называемая «нормальная» наука, как сказал бы М. Хайдеггер, «не мыслит»; этим занимается философия, притом не всякая, но такая, которую Г.Г. Шпет в начале ХХ в. называл «исторической философией»3, а А.В. Михайлов в конце советского века – «философией, ставшей исторической для самой себя»4.
Тот «взрыв» в истории гуманитарно-филологического мышления, указанием на который выразительно обрывается известная энциклопедическая статья С.С. Аверинцева «Филология»5, был общеевропейским событием; но в России это событие имело насильственный характер и сопровождалось определенными лакунами и редукциями, последствия которых по-настоящему «аукнулись» после 1991 г. и особенно – в новом столетии. Для того чтобы подступиться к этому поворотному событию, возвышенный образ «культуры» (и даже культурного «взрыва») явно недостаточен. Вообще идеализация понятия культуры, характерная для позднесоветского сознания, – это в значительной степени еще инерция раннего советского проекта «культурной революции» (как бы ни менялось со временем идеологическое наполнение этой формулировки).
Дело в том, что решающее философское событие ХХ в. – «переход от мира науки к миру жизни»6 в самом научно-теоретическом мышлении – радикальная и обновляющая самокритика Разума, трансформация предпосылок всей западной философии от Платона и Аристотеля до неокантианства – в русском научно-философском и духовно-идеологическом мышлении нормально не состоялось, не закрепилось и не имело продолжения ни в научно-материалистическом (советском), ни в религиозно-идеалистическом (дореволюционном и эмигрантском) мировоззрении и мечтательстве «о главном». Там и там, за вычетом идеологической полемики, мышление осталось, в методологическом смысле, на стадии утопии, т.е. на стадии общественного идеала, как бы перепрыгивающего через вяжущую, замедляющую «фактичность» мира жизни (бытия) с его продуктивной ограниченностью («конечностью») и незавершенностью («открытостью»).
Можно, оказывается, остаться с текстами, как с дыркой от бублика. Ведь в науках исторического опыта, как и в самом историческом опыте, даже при нормальных внешних условиях, решающее значение имеют не так называемые научные результаты, не «итоги», тем более не «идеология науки как профессии», которая, как отмечал Т. Кун, всегда стремится подменить действительную историю науки модернизированной версией ее, полученной задним числом7. Мы выпали не из истории вообще, но из «действенной истории» постольку, поскольку «опоздать» в историческом опыте значит выпасть из своевременного разговора. Кажется, нигде это выпадение или отпадение не было таким радикальным, как в нашей стране.
И это несмотря на то что в России «переход от мира науки к миру жизни» в научно-философском мышлении назрел между двух революций, когда русская философия едва ли не в первый и последний раз встала, действительно, «с веком наравне». Но, в отличие от Запада, новая революция в способе мышления в России сорвалась на взлете. Онтологически-событийный парадокс, как мне кажется, в том, что российское научно-гуманитарное мышление после советского века может по-настоящему открыть и воспринять