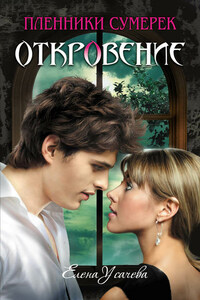Дом писателя имени Маяковского! – уютный, целехонький, еще не горевший. Потайные винтовые лесенки, по которым можно попасть в самую неожиданную точку здания, говорливые половицы, кое-где сохранившаяся атласная обивка стен. Бильярдная, но лишь для избранных. Черные кожаные диваны и кресла с прямыми высокими спинками, с которых беззлобно глядят симпатичные резные львиные морды. Шаткие письменные столики красного дерева с множеством ящичков бюро. Бронзовые пегасы или сцены охоты на круглых тумбах по углам гостиных – Красной, Дубовой, Золотой… Аристократически неброский, но прекрасный Белый зал – место общих сходок.
Всё это будет спалено пожаром. Или же отнюдь не всё, о чем явственно шушукалась литературная общественность, – а кое-что под завывание пожарных сирен расползётся по чиновничьим рукам и антикварным лавкам?
Буфет – особстатья. Помню полные достоинства писательские заискивания перед буфетчиком Гошей во времена унизительного алкогольного дефицита.
Но и в те поры народ исхитрялся. Однажды писатель Валерий Попов указал мне на только-только появившегося в зале переводчика, державшегося подчеркнуто прямо и строго: «Смотри, через полчаса под столом будет!» Все исполнилось в точности. В оправдание переводчика скажу, что, несмотря на отсутствие явно видимых внешних признаков опьянения, он словно светился изнутри. Такова была алкогольная насыщенность. Вероятно, запой длился далеко не первый день.
Сухонький старенький поэт-песенник Соломон Фогельсон с непременным потертым портфельчиком приходит обедать ежедневно – для него это ритуал. Обязательно выпивает сто граммов водки – «голодная стопочка». Во времена алкогольных запретов носит с собой шкалик. Иногда по дряхлости его от этой дозы изрядно развозит. По подбородку текут щи, ошметки кислой капусты летят на стол.
Я помню, как в свои лучшие годы он выступал у нас в школе. Что-то энергично пел, аккомпанируя себе на рояле, читал стихи, рассказывал о композиторе Соловьеве-Седом, порицал тех, кто неясно пишет. Показался мне тогда крупным дядькой с черной гривой волос. Вот оно, время! «Потому, потому что мы пилоты…»[1]
В извиве мраморной лестницы на пути в буфет стоял огромный гипсовый Маяковский, выкрашенный под металл. Ох, и доставалось же ему в начале шебутных девяностых! Как-то раз один подающий большие надежды молодой пиит, плотный и круглоголовый, усевшись на широкие беломраморные перила объемистым задом, упёр ноги в спину слововержца и попытался его завалить. Решил скинуть, так сказать, с парохода современности. Не вышло! – далеко ему оказалось до Карабчиевского.[2] Всё, на что хватило мо́чи – отбил лишь носок ботинка у статуи.
Да и прочие ожидания, связанные с тем юным бунтарем, увы, не сбылись. А ведь когда-то ругательски ругал власти, ходил, подпоясанный вервием, акции устраивал (например, свинтил где-то со стены медную дощечку с Пушкиным, а потом сам же её «обнаружил» и торжественно водворил на место, о чем пресса отозвалась благодарственной заметкой). А нынче – тёмно-серый костюм-тройка, бордовый галстук (этакий партийный набор), ездит на собственных «Жигулях», чем-то руководит в одном их «союзов писателей», расплодившихся, как шампиньоны в сыром сумраке теплицы. В общем, одно лишь хитроватое перекрестье его лица не обмануло.
Забегая вперед, замечу, что героиня этого повествования подобных вольностей в юности никогда себе не позволяла. Она всегда, всеми силами рвалась вписаться в истеблишмент. Что ей и удалось как нельзя лучше.
В начале восьмидесятых годов на одном из поэтических вечеров в Красной гостиной впереди меня уселась примечательная парочка. Она – прямая деваха с каким-то странным боковым хвостом на голове и баскетбольными плечами, он – сухощавый человек с густой седой шевелюрой, лет на двадцать пять постарше спутницы. Но зато в росте преимущество было на её стороне – на полголовы. Когда по окончании вечера они поднялись, эта разница сохранилась.
Девицей я, естественно, заинтересовался. Юморист Андрюха Шугай пояснил:
– Это Машка Ламарк.
– Что за каламарк? – не расслышал я.
Потом посмеялись: комиссией по делам молодых литераторов при ленинградской писательской организации в то время руководил детский поэт по имени Ламарк Николаевич Гузлов. А у этой псевдоним, что ли? Если псевдоним, то весьма целенаправленный, Ламарку Николаевичу должно понравиться.
Как и следовало ожидать, оказалось, что Маша пишет стихи и на вечерах желает быть не рядовым слушателем, а участником. Но стихи ее – совсем увы! Тем не менее, однажды Гузлов сокрушенно покачал головой и… включил-таки Машу в число читающих на очередном выступлении молодых стихотворцев. И псевдоним тут был совсем ни при чем.
Выяснилось, что супруг Маши – тот самый, седовласый, – никто иной, как Борис Петрович Кузнечихин, главный художник Ленинградского отделения союза художников. Как это ни комично звучит – «главный художник» (может, он и над рядовым Ван Гогом главный?), но существовала такая высокая официальная должность – со всеми вытекающими последствиями. Ведь ни для кого не было секретом, что творческие союзы перекрестно опыляли друг друга. И довольно активно.
На первом же вечере, где Маша декламировала, присутствовало большое количество экзальтированных бальзаковских дам с изощренными букетами и даже корзинами цветов. Когда смолкли Машины запевки, одна из них вскричала исступлённым басом: «Это поэтесса от бога!» Народ сильно изумился. По окончании вечера дамы дружно обложили цветами высокую Машину фигуру и встали в оцепление вокруг тандема Кузнечихин – Ламарк. Надувание лягушки стартовало.
С наступлением весны все закоулки Дома писателя наполнились звонкими молодыми голосами, к вечеру становившимися весьма нетрезвыми. Это началось очередное мероприятие под названием «Конференция молодых литераторов Северо-Запада». Всем писательским сообществом принялись искать новые голоса, желательно не надтреснутые, – в поэзии, прозе, даже в столь неопределенном жанре, как публицистика. Гостиные были отведены под работу семинаров. В Белом зале ежедневно бурлили литературные вечера. Буфет изнемогал.
Конференции предшествовал суровый отбор по рукописям. Наша героиня, естественно, не могла его не пройти. Однако на самой конференции Маша лавров не снискала. Юные провинциалы были не в курсе влиятельного супруга и критиковали задиристо и нелицеприятно. По застольным тусовкам пошли гулять Машины провальные строчки. Про то, как она на Красную площадь ступает «раскованной ногой», еще про каких-то старух «на карачках» в подземных переходах. Стоящих на коленях видывали, чем дальше, тем больше, а на карачках – не доводилось. Или Маша, по слабому русскому, нечто другое имела в виду? Помнится также оригинальная рифма «Иваныч – на ночь». Маяковский за подобными предлагал, вроде бы, в Венецуэлу гонять.