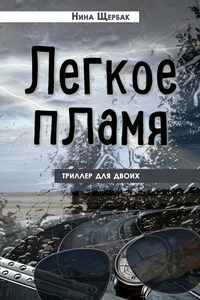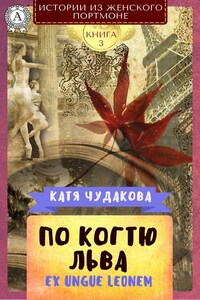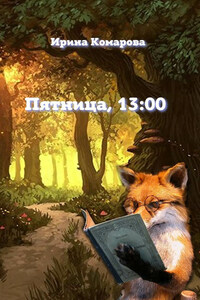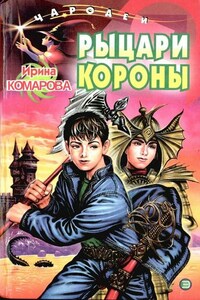Когда Маша отправились тогда с мамой в Латвию, ей было семь лет. Рано утром Машина мама погрузила вещи в их синюю машину, положила туда заботливо сложенную сумку: большой зеркальный термос, бутерброды с белым хлебом, печенье «Мария» (тонкие пластинки с едва заметными надписями-рунами, которые скрипели на зубах, издавая звук подобный печатаным шагам по январскому снегу), сладкие помидоры, зеленые огурчики с пупырышками, специально приготовленную Машиным папой сладкую творожную массу с изюмом (положили в расписанную нелепыми цветами алюминиевую миску). Потом они долго мчались по зеркальному шоссе. В какой-то момент Маше стало так хорошо, что она положила голову на мамины колени и заснула, а когда просыпалась, то слышала, как гудит мотор и поскрипывает сиденье, совсем не в такт хриплому радио, которое ее мама время от времени переключала своей тонкой рукой в алой лайковой перчатке.
Это только сейчас Маша понимает, что детство – это не самая лучшая пора в жизни. В детстве все кажется нестойким, странным, невесомым. Ожиданий много, а фантазия бурлит внутри таким неумеренным ключом, что, порой, даже ручки в машине, за которые можно уцепиться, кажутся то щупальцами, то лучшим другом из вчера прочитанной на ночь сказки. Маша и ее мама приехали в Юрмалу под вечер. Высадилась на побережье. С моря дул ветер и было странно неуютно. Их гостиница была расположена всего в нескольких шагах, и Маша почти ничего не помнила, кроме того, что мама все время пересчитывала сумки и спрашивала, не укачало ли дочь. В комнате пахло чем-то незнакомым, как будто многолетняя сырая обшивка передней была вдруг быстро опрыскана дорогими и едкими духами. Запах был настолько сильным, что, казалось, сшибал с ног. Маша коснулась головой белоснежной подушки и моментально уснула.
На следующее утро они долго гуляли по побережью. Ветер дул в лицо и было непривычно холодно. Маша наклонилась к самой воде, опустила руки в песок. Пошел дождь. Со Славкой Маша познакомились в тот же день. Он был юркий, худощавый и очень загорелый, распахнутые на мир глаза и веснушки по всему лицу. Славка жил в Юрмале семь лет, с самого рождения, был настоящим мальчишкой, этаким юрким, прозорливым, смышленым и благородным. Он же познакомил Машу со своим приятелем из Москвы Кириллом, совершенно противоположным по характеру: заносчивым, занудным, толстопузым мальчуганом, который вечно жаловался на свою бабушку и всячески пытался завоевать Машино расположение тем, что приносил в кармане огромные пакеты с печеньем, которые Маша, почему-то, должна была тут же съесть. Славка Маше нравился, конечно, значительно больше. Он это хорошо понимал, и совершенно этим не пользовался. Если Кирилл пытался рассказывать бабке, как они с Машей весь день гуляли и держались за руки, то Славка нарочито брезгливо отворачивался при любых вопросах, и только снова искал плоские камешки по берегу, чтобы в мгновение ока поднять их и запустить по воде. Море, едва коснувшись теплым краем поверхности камешка, вновь его отпускало, терпеливо выжидая, когда он, наконец, тихо не пойдет ко дну, в конце назначенной траектории.
Со Славкой Маша часто гуляла наедине вдоль берега. Он рассказывал ей о своей маленькой лачуге-хижине неподалеку. Смотрел прямо на Машу, а она скользила взглядом по его загорелым рукам и плечам, и ей думалось, что если бы она была мальчиком, то хотела бы стать именно таким: худющим, загорелым, добрым. Кирилл появлялся всегда некстати. Он что-то рассказывал про Москву, и снова звал Машу и Славку в старое кафе на том же взморье, где заказывал разноцветные глянцевые пирожные, которые, впрочем, тут же съедал, шевеля толстыми раскрасневшимися щеками и причмокивая.
В последний день Машиного пребывания в Юрмале было дождливо. Без грозы, но дождь шел беспрерывный и невидимый, повергая отдыхающих в состояние какого-то безнадежного ожидания. Славку позвала бабушка, и он нехотя оставил компанию, обещая «прибежать» через пару часов «уже до самого вечера». «Давай собирать лягушек в банку», – предложил Кирилл. Лягушек у моря было много, все это время Маша с Кириллом, поочередно, вынимали их из мутного кривого ручья неподалеку, держали за лапки, рассматривали, пока удивленные животные не выпрыгивали из рук обратно в воду. На этот раз Маша снова обрадовалась баночной идее. Казалось, это был не каждодневный, привычный опыт, а что-то важное, спасительное. Дождь усиливался, лягушки издавали странные звуки, дружно подтверждая на своем странном языке, что в банке им станет значительно теплее и комфортнее. Кирилл набрал почти полную, а потом налил туда морской воды, а чтобы лягушки не выпрыгивали – плотно закрыл содержимое крышкой. Славка появился через полчаса, обеспокоенный, и серьезный. «Тебя мама зовет! Ехать надо!» Маша хотела поцеловать его в щеку, но вдруг подумала, что идее с лягушками он обрадуется намного больше, удивиться, может быть, заинтересуется. Когда она протянула ему банку, то увидела, что за стеклом наблюдалось странное спокойствие. Славка в ужасе отпрянул от Маши, как будто его ужалила змея, а потом выхватил банку из Машиных рук и вывалил содержимое на песок. Мертвые лягушки падали одна за другой, их смятые тушки были похожи на несуразных амеб, или чудовищ, которые теперь застыли в неловких позах, покрытые мокрым песком.
– Что вы наделали? – сдавленным голосом прошипел Славка.
– Что? – в глазах у Маши стояли слезы, она на мгновение замерла, силясь сообразить, что произошло, почему все так, и по какой причине эти мирно прыгающие животные еще час назад жили, а теперь, в один момент окочурились в этой самой злосчастной банке. – Они же в воде живут! – пыталась Маша сдержать душившие ее слезы.
– В пресной воде, а не в соленой, – наконец, спокойно ответил Славка, сел на корточки и обхватил колени руками.
Машина мама собралась быстро, все сокрушалась по дороге, что ее подруга забыла взять адрес Славки, хоть и обещала. А Маша совершенно не помнила, как они ехали домой. Дождь все усиливался, а комок в горле мешал, как будто бы вся накопившаяся за это время на море детская, неуемная тоска вдруг разом обрушилась и душила.
Марихуана или Ноль эффекта
Маша снова увиделась с Кириллом, когда заканчивала Политехнический институт. Было это в летнюю сессию 1995 года. Его волосы теперь были затянуты назад в тугой хвостик, который он, по всей видимости, заботливо причесывал по утрам. Кирилл был сосредоточен, резок, сумрачен и худощав. Полгода назад от него ушла жена. Ушла к его французскому другу, видному бизнесмену в дорогом пиджаке, коллеге по фирме, почти за месяц до рождения их с Кириллом ребенка. Дед Кирилла был профессором известного гуманитарного университета, у бабушки, грозы и хранительницы дома, были личный шофер, Кирилл и слова воспитания в адрес внука «Никогда не ухаживай и не звони девушкам, сами объявятся». Мать любила Кирилла до безумия, баловала и часто возила на машине на их академическую дачу в Дюны. Отец был с Кириллом необыкновенно строг, в какой-то момент отправил сына в армию, и пытался, как мог, воспитывать своего отпрыска как настоящего мужчину. Это означало, что Кирилл должен был сам принимать решения и никогда не жаловаться. Мать, однако, делала все наперекор отцовской воле, и Кирилл рос, с одной стороны, ощущая себя уже с пеленок мужественным бойцом, а, с другой, сохраняя природой заложенную тонкоранимую, женственную натуру. Потом, много лет спустя, он как-то обмолвился, что девушки его вовсе не жаловали. Молодость выпала на 90-е годы, поэтому было сложно угодить даже самой скромной. Перестройка свернула головы, денег требовала каждая, и залихватски подбоченившиеся сокурсницы все время намекали, что финансов у него все равно никогда не будет. Кирилл любил мартини, машины, и свою жену. С ней он учился на одном курсе в ЛИТМО, с ней вместе ходил в походы, с ней же ночами слушал Линду, и в нее же без памяти влюбился, полагая, что именно в этой, черноокой на тонких каблуках стерве, заключена вся женственность, материнская прыть, статность и, главное, сексуальность его детской мечты.