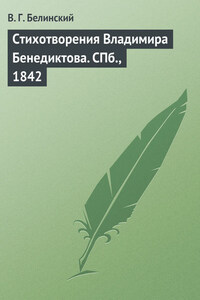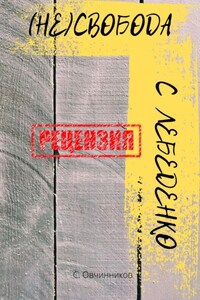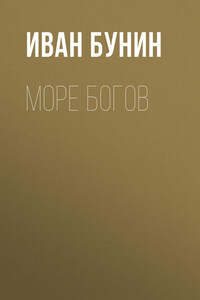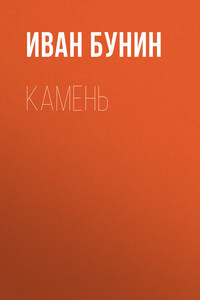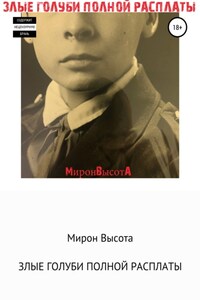Когда теперь думаешь о Леониде Андрееве, с глубокой горестью вспоминаешь его ужас и отчаяние перед лицом погибающей России и ту мольбу о спасении родины, которую в последний час свой он тщетно воссылал на все четыре стороны мира. Мир не откликнулся. Леонид Андреев умер.
Но как ни велико уважение к его предсмертной скорби и к его человеческой памяти вообще, автор не может не воспроизвести здесь той отрицательной характеристики Андреева-писателя, с которой он выступил в прежних изданиях своей книги.
* * *
Самый необязательный и неубедительный из беллетристов, Леонид Андреев оспорим уже в слоге и форме своих произведений. Ему сопротивляешься; читая его, мы испытываем какое-то принуждение и напряженность, потому что все время ведет он нас не по той единственной и естественной дороге, которая целесообразна, а на каждом шагу сворачивает в сторону и, подолгу останавливаясь на какой-нибудь посторонней черточке, придает ей незаслуженную важность и значение. Чуждый перспективы, меры и такта, он производит много шуму из ничего; он не различает между главным и второстепенным, выбирает не существенные, а случайные признаки предметов и не дает нашему вниманию сосредоточиться, принять единое на потребу. Он создает для своей речи искусственное русло, и потому она не льется так грациозно и просто, как этого хотело бы читательское ожидание. Не сообразуясь с экономической природой нашего восприятия и побуждая нас непроизводительно тратиться, он раздражает; как назойливые мухи, действуют его придуманные мелочи – нельзя проходить через его книги без усталости и усилий. Одна подробность лепится у него на другой, одна деталь обрастает другую, и этот словесный полип не представляет собою действительной целостности, подлинного единства. Мелочи не срастаются в крупное; из многих лилипутов не соберешь одного Гулливера. И как сумма не есть синтез, так у Андреева его накопление не есть богатство. Очень тесно; все заставлено, загорожено, загромождено – точь-в-точь как в помещичьем доме, который характеризует его же разбойник из «Сашки Жегулева», Иван Гнедых: «и тут наставили, и тут нагородили, и тут без ума намудрили». Так как нет в его дорогах психологической обязательности, то мы наперед не знаем, не предчувствуем, куда он нас поведет, и одни, без него, мы были бы беспомощны. И чувствуется нередко, что ему самому тяжело; связывающий и связанный, он будто видит и слышит каждое слово свое, он делает свои эпитеты – во всяком случае, лежит на его страницах слишком явная печать отделки. «И ожидание – и ожидание – и ожидание», – читаем мы в «Анатэме»; «а Иисус приблизил его и даже рядом с собою – рядом с собою посадил Иуду»; или «все дружелюбно болтали с ним, но Иисус – но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду», – читаем мы в «Иуде Искариоте»; все это не кажется нам действительной вдохновенностью и потому неприятно задевает, зацепляет нас, требует непредвиденной и нежеланной остановки. Преднамеренная словесная лепка, стилистические игрушки, но без духа игры, подчас красивая, но всегда холодная риторика эти особенности Леонида Андреева вызывают к нему непреодолимое отчуждение. Он – не родной, не близкий, но и не настолько далекий, чтобы у читателя возникало чувство величия, настроение благоговейности. Автор туго перевязывает свою напряженную фразу какою-то невидимой бичевкой, так что не рассыплется она, не выпадет ни одного слова; но для сближения с писателем хотелось бы именно некоторого беспорядка и беспечности, и всю эту вычурность, вроде «круглых, больших камней» Иудиного смехр или желтой розы, у которой «смуглое лицо и глаза, как у серны», или этой сочиненной вьюги, которая поет о том, что у нее не было детей, она сожрала их и «схоронила в поле, в поле, в поле», – все это мы отдали бы за простой штрих истинной, а не мнимой наблюдательности, за какой-нибудь искренний и живой порыв души. Но он, в сущности, холоден, Андреев, и только потому может загромождать свое изложение всякими причудами и для всех доступной мишурой. У семинариста Сперанского из «Саввы» не просто лежат волосы на голове, а «висят они двумя унылыми прядями вдоль длинного белого лица»; это как-то тяжело читать. На столе у Давида Лейзера библия – об этом Андреев так передает: «…распластавшись и подвернув под себя листы, похожая на крышу дома, который разваливается, валяется корешком вверх огромная библия в старинном кожаном переплете»: может быть, это и красиво, но это не нужно, и автор, отвлекая нас от важного и вечного средоточия вещей, от страдающего героя, создает изнурительную и тягостную децентрализацию. Но в то же время он заперт в свои слова, и это только иллюзия, будто в его рассказах открыты для воображения широкие просторы, будто оно совершает там дальние полеты; на самом деле уже подготовлены для его фантазии модели давно существующих слов и прежних образов. Например, в очерке «Так было» описывается народное собрание, и мы узнаем, что у иных из его участников – глаза, «то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишенные ресниц, – факелы в черных нишах тюремной ограды»; можно подумать, что подчеркнутое нами сравнение является ассоциацией такой неожиданной и смелой; но в действительности, как всегда у Андреева, здесь – только соседство, смежность, а не внутреннее сродство явлений, и сравниваемые моменты внешне гораздо ближе между собою, чем это кажется на первый взгляд. Кроме того, он вообще больше, чем это делают другие писатели, и в данном примере, и везде, пользуется складом готовых слов, приспособленных к среднему интеллекту. Андреева слова как-то поджидают, и притом недалеко, за углом. Все авторы, конечно, говорят на том же языке, который звучал уже и звучит из таких многочисленных уст; но у истинного художника старые материалы, обновленные в горниле его творчества, получают облик чего-то первозданного, отпечаток внутренней новизны и свежести – Андрееву же присуща тонкая банальность. Он не изобретает. У него могут быть прихотливые комбинации слов, но духом своим они принадлежат сфере обычной и общедоступной. Настоящая оригинальность ему не дана. Его переходы, изгибы его мысли иногда порождают марево дали, но от пристального взгляда оно рассеивается, и вы видите ограниченность, тесноту, предопределенность словами и всяческим более или менее скрытым шаблоном. «Ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи с концом ее: еще только строилось здание и строители еще стучали молотками, а уж виднелись развалины его и пустота на месте развалин» – в этом отрывке из «Елеазара» между началом вещи и концом ее, между началом фразы и мысли и их концом, несмотря на видимую пропасть, в сущности, расстояние совсем невелико, и самая картина возникла не из эстетической необходимости, а подсказана словами, их подбором, и вдохновение здесь – только словесное.