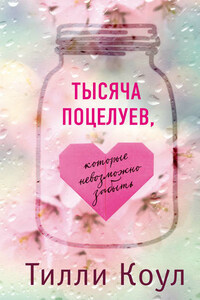…Лишь сегодня доктор Андре окончательно решил, что умирать он будет без неё. Достаточно того, что он не умер раньше. Достаточно того, что она столько лет терпела его старое, решившее теперь умереть тело.
Он не может допустить, чтоб она бросила свои дела, прилетела сюда и сидела подле его постели. Он сделал все распоряжения – ей обо всём сообщат из нотариальной палаты.
Весенняя римская ночь всегда неповторима и переменчива, особенно для того, кому знаком строгий, застывший в своем единообразии русский март – его движения сухи и минимальны.
Мартовская ночь Рима напротив – грациозно вальяжна и царственно подвижна в своих бархатно-тёмно-синих, переходящих в бордо тонах и звуках и обязательно пахнет счастьем.
– Пусть счастья у кого-то пока нет, оно будет. Оно непременно будет!
Она вся в этой фразе – ей недостаточно быть счастливой – она хочет, чтоб счастливы были все.
Сухие тонкие губы доктора чуть приоткрыты и тронуты тихой мягкой улыбкой, кончик прохладного языка инстинктивно касается правого угла его горячего рта. Потому что всегда – è senza parole! – он всегда теряет дар речи, буквально, от её слов, какими бы ожидаемыми они ни были.
Ведь при этом – она на него смотрит!
Она так на него смотрит, что он, солидный, седовласый, именитый профессор, доктор права Андре Инганнаморте, вынужден опускать и даже прищуривать свои мудрые светло-серые глаза – тонкая преграда очков без оправы плохой щит его нелепому смущенью.
Ведь так говорит та, которая сама стала его небывалым прежде счастьем, если понимать счастье как живущий в тебе много лет свет, волшебно не затемняемый, не прерываемый ни на мгновенье, как бы далеко пространственно он от тебя ни находился.
И сколько это счастье длится, столько удивляется доктор, как странно оно началась, ещё не начавшись.
Прежде ничего подобного с ним не случалось, но однажды такое стало с ним происходить, что каждому мало-мальски заметному событию в его жизни стал обязательно предшествовать некий знак.
Знаком могло быть случайно услышанное имя, вскользь произнесённая кем-то обычная фраза, предмет, никогда прежде доктора не интересовавший и вдруг ставший для него не просто любимым, но необходимым как воздух.
Предвещённое знаком событие происходило не сразу – через какое-то, всегда разное, порой длящееся не один год, время. При этом доктор всегда ясно сознавал связующую знак и последовавшее за ним событие прочную, никому другому, кроме него, не видимую сущностную нить.
Он рассказал об этом только маме – на одной из их ежевечерних поверок. Мама, как всегда, угадала смысл, не предполагая, что он утаил от неё время появления знаков-предвестников.
– Так и должно быть. Это всего лишь первые признаки старости, мой pangrattato.
Маме не стоит знать, что эти знаки начали посещать его давным-давно, задолго до старости, в русском плену, где даже не старость, сама смерть была естественна и закономерна.
Мама, мама Лючия, всегда главный человек его жизни.
– Я не могу не любить тебя, pangrattato, – любит повторять она. – Ты воистину моя khlebnaya kroshka – моя хлебная крошка, однажды выпавшая из меня.
Их вечерние поверки – очные или телефонные часовые разговоры друг с другом происходят неизменно каждый вечер, в какой бы части мира доктор Андре ни находился.
Его отец – потомственный нотариус Антонио Инганнаморте до самой своей ранней смерти в пятьдесят четыре года был, конечно, главным человеком в доме, но без мамы Андре своей жизни вообще ни за что бы не мог представить.
К жене была у него поначалу, казалось, любовь, оказалось, лишь страсть – быстро, незаметно и невозвратно остывшая, как неизменно остывает крупный горячий песок, когда его перестаёт освещать огнеликий пламень безудержного солнца.
Что после свежести чувств, когда они поблекнут, может заменить сливающее двух людей в одно существо, странно казавшееся им вечным физическое солнце страсти?
Бог, великие цели, будничная суета или, может быть, рождённые этим коротким единством дети – две дочери, появившиеся с разницей в девять, показавшихся доктору долгими, лет?
Дочери были к Андре даже холоднее жены, почти изначально, в самом своём восторженном, птеничьем возрасте. Хотя они, копируя одна другую с девятилетней разницей во времени, как всякие дети, одинаково самозабвенно щебетали с ним, скакали и радовались переполнявшей их жизни.
На краткий миг Андре казалось, что его крепкое, тогда ещё упругое тело слито в едином порыве с хрупким дитячьим тельцем, летящим от него к небу, сжимаясь от одного, роднящего их и соединяющего в единое вселенского страха.
Нет – самообман заканчивался быстро. Уже в следующее за мимолетной надеждой мгновенье доктор явственно чувствовал, что каждая из дочерей, как и их мать, по сути лишь рядом, но не вместе, а параллельно с ним.
Он никогда не искал ни явных, ни скрытых причин такой холодности, принимая её как данность. Это, пожалуй, единственное, в чём когда-либо была не согласна с ним мама Лючия.
– Один дух – одна плоть, pangrattato – всё другое от лукавого – ты должен стремиться к единству с ними.
Так часто повторяла мама – он никогда не возражал ей. Он не понимал тогда, вернее, не задумывался о том, возможно ли и даже нужно ли в принципе это земное единство во всём чужих прежде друг другу существ.
Даётся ли оно по родству плоти и крови, или может приобретаться твоим выбором и усилиями, или даже дариться тебе неведомо кем, для чего и как.
Он не думал, а оно пришло к нему, это родство, не определимое как плоть, душа или дух по своей отдельности – но как целое, никакими словами до конца не выразимое, вряд ли вовсе определяемое. Это чувство, ощущение, знание, данность, поселившееся в нём неожиданно и неотменимо, было как подарок, в буквальном смысле, ни за что ни про что – непонятно зачем, от кого и за что.
Если бы доктор Андре, как подобает ему по званию и рождению, был ревностным католиком, он назвал бы это промыслом Бога. Но Бог очень долго был для доктора лишь отдельно, само собой существующей сущностью, данностью, получаемой человеком при рождении вместе с родителями, Родиной и прочими важными обстоятельствами.
И ему показался непонятным предвестивший будущий подарок знак – сам по себе подарок, также ничем не обусловленный, абсолютно алогичный, возникший без какой-либо объективной причины или самого простого повода.
– Я плачу, Андре! Наши сады и парки погибают! Никто этого не видит. Наши сады стали хуже британских. Они мертвы! Разве может быть живым сад, когда он – не выращен из живой природы, а искусственно создан вместо неё!
Так экспрессивно даже для итальянца много лет подряд восклицал Марио, друг Андре по короткой военной компании и долгому русскому плену, садовник с виллы де Кастелло, до ненормальности увлеченный возрождением хиревшего, по его мнению, садово-паркового искусства Италии.