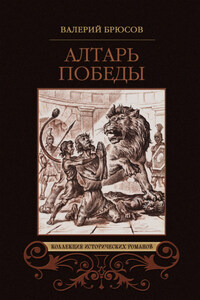Недавно «Matin» напечатало неизданное письмо Ж. Визе к одному из его друзей, о искусстве, разуме и прогрессе. «Ваш прогресс, – пишет Визе, – неизбежный, неумолимый, убивает искусство. Бедное мое искусство! Общества, наиболее зараженные суевериями, были великими двигателями в области искусства: Египет, Эллада, эпоха Возрождения… Докажите мне, что у нас будет искусство разума, истины, точности, и я перейду в ваш лагерь!.. Как музыкант, я объявляю вам, что если вы уничтожите адюльтер, фанатизм, преступность, заблуждения, сверхъестественное, – не будет никакой возможности написать ни одной ноты. Искусство падает по мере того, как торжествует разум. Создайте мне сегодняшнего Гомера, сегодняшнего Данте! Но как? Воображение имеет свои химеры, свои видения. Вы уничтожите химеры, и тогда прощай искусство!»
Года два назад в том же смысле высказался Сюлли-Прюдом в предисловии к новой «Антологии» современных французских поэтов[2]. «В поэзии нет эволюции, – заявил он. – Образ вселенной видоизменился для каждого культурного ума. Небо для нас уже не покров с подвешанными, для нашего освещения, лампадами: оно – бесконечное пространство: без дна и без вершины. Шаровидность земли отодвинула в неопределенную даль столбы Геркулеса. Стираются грани между миром животным и растительным. Вещество все более и более теряет свой характер грубой косности, непременно протяженной: физика и химия стремятся утончить его, обратив в систему точек, центров сил, лишенных протяжения. Бесчисленные чудеса прославляют мощь человеческого ума. Но ничего из этого, если не считать редких прорывов, не проникло в сферу поэтического вдохновения. Любовь, со всеми связанными с нею страстями, осталась ее последним господином, как была первым. Я не удивляюсь этому и не жалуюсь на это. Ибо ничто, кроме любви, не способно вполне наполнить сердца».
Нельзя сказать, чтобы суждения автора «Кармен» и автора «Разбитой вазы» были особенно новы и неожиданны, а вернее сказать, они просто банальны. «Искусство падает по мере того, как торжествует разум», «Прогресс, неизбежный, неумолимый, убивает искусство», «В поэзии нет эволюции» – это общие, «ходячие» воззрения. Тогда как никто не сомневается, что наука нашего времени ушла неизмеримо далеко от науки древности, многие уверены, что в искусстве видоизменились лишь формы, а по содержанию оно стоит на том же месте, что и два с половиною тысячелетия назад, если только не пошло назад, – и мало того, что уверены, но, подобно Сюлли-Прюдому, «не удивляются этому и не жалуются на это». Вероятно, еще большее число лиц уверено, вместе с Ж. Визе, что между «искусством» и «прогрессом», между «искусством» и «разумом» существует исконный, неустранимый антагонизм, и что там, куда проливает свой свет наука, тают туманы и призраки искусства. И, конечно, наш Баратынский был не одинок, когда, более полувека назад, запечатлел такой взгляд в своих кованых стихах:
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны…
Вот почему слова, поставленные во главе этой статьи, «научная поэзия», должны многим показаться противоречием в терминах, чем-то вроде «квадратного круга». Между тем – это лозунг, объединяющий в настоящее время целую группу писателей, ставящих себе целью доказать, что между наукой и искусством союз не только возможен, но и необходим. «De la pensee avant toute chose», вот какое требование к поэзии предъявляет один из них[3], перефразируя стихи Вердена. Поэзия, по мнению этих новаторов, прежде всего должна мыслить; отказавшись ото всего, что наша мысль считает «заблуждениями» (и на чем, по мнению Ж. Бизе, основано все искусство), поэзия должна искать одной истины. Только тогда поэзия вернет себе в современном обществе то значение, какое она имела в древнем, только тогда она станет чем-то нужным, важным, и будет уверена, что и в грядущем ей обеспечено почетное место.
Родоначальником этого движения надо признать Рене Гиля, который первый во французской поэзии выставил идею «научной поэзии», и вот уже четверть века всячески пропагандирует ее.
Рене Гиль – одна из оригинальнейших фигур в современной французской литературе. Он начинал свою деятельность в 80-х годах вместе со «вторым поколением символистов». Одно время он считался учеником Ст. Малларме (который был на двадцать лет его старше), но потом обособился от него и от всех «символистов» и выставил свою эстетическую теорию. Это очень скоро привело Гиля к полному одиночеству в литературных кругах: защитники традиций не признавали его, как новатора; деятели «новой» поэзии относились к нему, как к чужаку, как к врагу. Такое положение многих могло бы смутить, но Р. Гиль нашел в себе мужество, чтобы в течение двадцати пяти лет неуклонно отстаивать то, что считал истиной, не идя ни на какие компромиссы, предпочитая оставаться в тени, чем поступиться хотя бы одной йотой своего учения. Подобная стойкость убеждений – явление далеко не обычное в наши дни.
Как известно, в 90-х годах новые поэтические школы во Франции могли праздновать победу. Их журналы получили, наконец, настоящее распространение, книги многих «символистов» завоевали широкий круг читателей, и республиканское правительство почло нужным украсить сюртуки более видных из них ленточкой почетного легиона (Ж. Мореаса, А. де Ренье, Ф. Вьеле-Гриффина и др.). В эту эпоху самые непримиримые из деятелей «новой» поэзии поспешили отречься от всех крайностей, как от заблуждений юности, и получить свою долю при дележе общего успеха. Гюстав Кан, который на заре своей деятельности также был учеником Малларме, подражал учителю в изысканности и исхищренности языка и держался самых «левых» эстетических теорий, – быстро перешел ко взглядам общепринятым и к самой обиходной прозе, той, которую Верлен клеймил когда-то названием «литературы»: теперь Г. Кан постоянный сотрудник распространеннейших ежемесячников и любимейший парижский conferencier. Ж. Мореас, основавший было свою особую «романскую» школу в поэзии, как только убедился, что школа его успеха иметь не будет, отказался от всяких теорий и стал писать бойкие фельетоны в газетах. М. Метерлинк, когда-то автор «Принцессы Мален», не только написал общедоступную «Монну Ванну», но и стал поставлять в «Le Figaro» передовые статьи о боксе и автомобилях…
Нет сомнения, что и Р. Гиль мог бы добиться популярности, если бы согласился пожертвовать своими юношескими мечтаниями и пойти навстречу запросам дня. Но он предпочел остаться в одиночестве. «Не раз, – пишет он сам в начале своей новой книги, – меня более или менее дружески упрекали в том, что я не задумал и не написал своей Поэмы в форме более доступной большой публике, хотя бы при этом мне и пришлось до некоторой степени пожертвовать своим идеалом новатора. Эти жалобы подкреплялись уверением, что я, ценой некоторых уступок и компромиссов, мог бы достичь самой широкой известности и самого быстрого влияния. Но я полагаю, что художник должен быть неразрывно связан с своим созданием, ибо это создание не что иное, как проявление его существа. И я просто предъявил к самому себе те моральные требования, которые вытекают из моего учения»